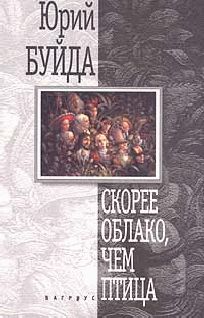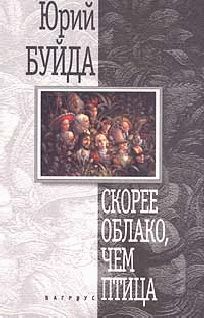Юрий Буйда - Город Палачей
Сюр Мезюр снял шляпу, украшенную в знак траура креповым бантом, и заговорил:
- Еще в 1485 году при строительстве римской церкви Санта Мария Нуова был обнаружен саркофаг с телом прекрасно сохранившейся пятнадцатилетней девушки, похороненной задолго до нашей эры, то есть до Рождества Христа. Казалось, она лишь минуту назад задремала. Ресницы ее подрагивали, но она не просыпалась. К телу ее началось паломничество. Чтобы прекратить это безобразие, папа Иннокентий велел девочку перезахоронить, а солдат из похоронной команды разослал по отдаленным гарнизонам, чтобы тайна красотки умерла вместе с ними. Во времена другого папы - Иннокентия XII - случилось другое чудо. В конце 1629 года в монастыре Ля Сель Рубо похоронили шестидесятилетнюю монахиню Розалин. Врачи исключили возможность летаргии Розалин похоронили, повторяю. Но когда спустя несколько лет гробницу вскрыли, - старушка была как живая, и даже глаза ее задорно блестели. По приказу папы ее уложили в стеклянный саркофаг, а глаза вырезали и поместили рядом, в серебряном реликварии, чтобы молиться было удобнее. В 1660 году в монастырь заехал король Людовик XIV. Повосхищался, как полагается, реликвией, а потом вдруг приказал своему лекарю Антуану Вайо проколоть ножиком глазное яблоко Розалины. Зрачок сузился, утратил блеск, из места прокола брызнула кровь. Король был в восторге. И даже через полстолетия врачи констатировали гибкость ее членов и свежесть кожи...
- Они-то все мертвые были, - перебил его Соколов-Однако. - А эта пока живая.
- Не хотела бы я оказаться на ее месте, - пробормотала Малина. - А главное - не хотела бы я увидеть ее сны. Словно проснуться в чужом мире...
Сюр Мезюр поднял тонкий палец, просвечивавший насквозь: ясно различались болезненные наросты на его суставах.
- У меня неважная память на имена, поэтому я вынужден иногда кое-что записывать. - Он извлек из внутреннего кармана пиджака разлохмаченную записную книжку, листнул и мерным звучным голосом прочел: "Мы не отделены от потустороннего мира ни пространственно, ни временно; отделенные от него только субъективными границами, порогом нашего сознания, и погруженные в него трансцендентальной частью нашего существа уже при жизни, умирая, мы вступаем в него не впервые". - Он сунул книжку в карман. - Какой-то то ли Шарль, то ли Карл Дюпрель... если я правильно запомнил это имя... Не впервые, не впервые...
И надев шляпу с креповым бантом, твердой стариковской походкой покинул ресторан.
Той ночью я спустился в подземелье, но не отважился открыть крышку саркофага. Я не боялся выстрела, хотя сослепу она и могла бы влепить мне пулю. Я бродил по подземелью вокруг саркофага и не знал, как быть. Как жить дальше. Как таскать за собой собственную тень, которая стала тяжелее свинца и золота. Она не обещала любить меня всегда, но дала слово - любить меня вечно. Мы остались одни, каждый со своим одиночеством. Вот и все, пожалуй, до чего я тогда додумался. Все, что у меня оставалось, - это терпение и твердая вера в то, что Ханна будет моей. Однажды. Может быть. Когда-нибудь. Да еще этот запах - и откуда бы ему тут взяться? - всепроникающий запах юности и победы, лимона и лавра, морвал и мономил...
Мертвая Царевна и один урок грамматики
- Я вот руки с мылом мою, а люди умирают, - сказал отец, глядя перед собой - на беленую стену. - Сегодня мальчик в парикмахерской читал вслух Пушкина. И ножка ножку ножкой бьет. Разве у Пушкина так? Нет же. Тщательно вытер руки полотенцем и повторил с усмешкой: - И ножка ножку ножкой бьет. Ты ведь Боратынского любишь?
Сев на табурет, он натянул чистые сухие носки и повел плечами, проверяя, хорошо ли сидит пиджак. На нем была белая сорочка и узкий галстук. Так и не надев ботинок, он прошел в свою комнату и сел перед зеркалом.
Я остановился в дверях.
Отец посмотрел на себя в зеркало, еще раз повел плечами и размеренным голосом прочел:
Есть бытие; но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье;
Меж них оно, и в человеке им
С безумием граничит разуменье...
Он вдруг запнулся.
- И там еще что-то про свет, другим не откровенный...
- Какой свет? - спросил я. - Тебе ботинки подать?
- Не надо, спасибо. - Он помассировал бритые щеки кончиками пальцев. Каждому ужу по ежу, каждому ежу по чижу. Кто это сказал?
- Все говорят.
Только тут я заметил, что виски у него были выбриты, чего раньше он никогда не делал.
- Все говорят: потому что вода. - Он закрыл глаза и поднес указательный палец правой руки к виску. - Потому что вода. - Открыл глаза. - Посиди пока, ладно? Не уходи.
- Значит, не нужны ботинки?
Он покачал головой: нет.
Выкурив сигарету на крыльце, я вернулся к отцу.
Он сидел в той же позе не шелохнувшись.
Лицо его от напряжения и жары было мокрым, на него садились мухи. Я провел рукой у него перед глазами - мухи улетели, но глаза отца остались недвижимы.
- Папа, - сказал я. - Квасу хочешь?
Он промолчал.
Я сел в углу на пол и стал ждать. Признаться, мне было тоскливо. Вот так сидеть сиднем и ждать. И чего ждать? Дураку было ясно, что ничего хорошего я тут не дождусь.
Вскоре я догадался, почему при открытых окнах в комнате так жарко. Отец сжег все бумаги в печке-голландке, стоявшей в дальнем углу. Стараясь не шуметь, я снял с подоконника книгу - это было какое-то старое издание Монтеня. Полистал, увлекся - увлекся скорее машинально, инстинктивно, глаза побежали по строчкам, как ленивые собаки ни с того ни с сего бросаются за велосипедистом, стоит ему тронуться с места. Иногда я поднимал голову и смотрел на отца. Он сидел на стуле прямо, не меняя позы, и изо всей силы (как мне потом показалось) вжимал указательный палец в правый висок. Я мог бы уйти. Во всем этом было что-то абсурдно-комическое. Может быть, потому я и не ушел. Мне почему-то показалось важным отбыть эту муку до конца. А потом помочь ему улечься в постель, чтобы Гавана напоила его какой-нибудь своей микстурой "от жизни". И потом никогда не вспоминать об этом эпизоде. Никогда, ни при каких обстоятельствах. Потому что мрачного абсурда в этом эпизоде было, пожалуй, больше, чем абсурдного комизма.
Невольно вспомнился отчим Эркеля, ни с того ни с сего прибивший руку ржавым гвоздем к столу и умерший от заражения крови. Почему? "Пусть хоть это будет совсем по моей воле", так, говорят, сказал он жене и пасынку напоследок. Он умирал мучительно долго, обмочился и обделался, впал в бред, пока наконец не затих навсегда. О его смерти старались не говорить, как о чем-то неприличном. Я сидел, читал страницу за страницей Монтеня с его горьковато-безвольным "Qui sais-je?", хотя предпочел бы что-нибудь более веселое и интересное.
Я вдруг подумал о Ханне, которая сейчас там, внизу, в саркофаге, и зажмурился до боли в глазах...
И в этот момент отец упал.
Я вскочил.
Он упал вместе со стулом и так и лежал на полу под полузаклеенным зеркалом, задрав одну ногу на поваленный стул.
Под левым глазом у него жутко набрякло.
"Кровоизлияние в мозг, - сказал доктор Жерех. - Была бы смерть, а человек найдется".
Его похоронили рядом с матерью.
Мать умерла, когда мне не было и трех лет. Она умерла от скоротечной саркомы, последние дни ее, как впоследствии рассказывал мне доктор Жерех, были мучительно ужасными, ее непрестанно рвало, и отец то и дело бегал мыть тазик с больничным номером 29. После смерти матери он завернул этот тазик в бумагу и молча отнес домой. А вскоре создал в доме что-то вроде мемориального музея матери. В этой холодной комнате, посещать которую я был обязан ежедневно, висел написанный маслом портрет матери в полный рост - с венком из роз на рыжеватых волосах, строгим взглядом серых глаз и в длинном платье, из-под которого высовывались острые носки белых туфель. Сам портрет был обрамлен прямоугольным - строго по форме рамы - венком из фаянсовых цветов. В платяном шкафу хранились мамины вещи, упакованные в холщовые мешки и вощеную бумагу. На маленьком рабочем столе стояла зингеровская швейная машинка, а в ящике стола, под ворохом лент, обрезков ткани и ниток - исписанный ее округлым почерком журнальчик, который мне возбранялось брать в руки. В день рождения и в день смерти матушки перед ее портретом возжигались настоящие восковые свечи и в комнате едва ощутимо пахло пчельником. Отец мыл эту комнату раз в неделю, и видел бы кто, как он это делал. "Остервенение" - слишком слабое слово для человека, который при помощи железной граммофонной иглы и зубной щетки удалял все крошки, иссохшие трупики комаров и случайные пятнышки, образовывавшиеся всюду как-то сами собой. После этого он опрыскивал комнату какой-то жидкостью с запахом керосина и дня два никого туда не пускал.
"Это, конечно, идиотизм, - признался он как-то мне после очередной такой уборки. - И порядок в ее комнате мне совершенно не важен. Но я не умею любить мертвых. А ее я люблю. Вот хотя бы так, как я это делаю. Зубной щеткой".
Нет, он не был идиотом, помешанным на порядке. Он был часовым мастером. Хорошим часовым мастером, справлявшимся с любыми неисправностями или поломками в часомерных механизмах. Он бесплатно починял школьные приборы вроде барометров или химических весов. Но когда к нам заявилась однажды пьяненькая Катерина Блин Четверяго, выполнявшая - помимо множества иных функций - еще и обязанности свахи, он выслушал ее на крыльце, улыбнулся и запер дверь, чтобы вернуться к любимейшему своему занятию чтению. Читал же он книги, до которых тогда я, жаднейший до помешательства читатель, просто не дорос. А когда я спросил его о Боге (это было эхо школьной трепотни и учительских атеистических внушений), он закрыл своего Монтеня и со слабой улыбкой произнес: "Кажется, еще мой отец сказал, что люди придумали Бога лишь затем, чтобы примирить безмозглую бесконечность космоса с безумной непомерностью человека". И после непродолжительного молчания вдруг добавил: "Но это и был величайший подвиг в истории человечества".