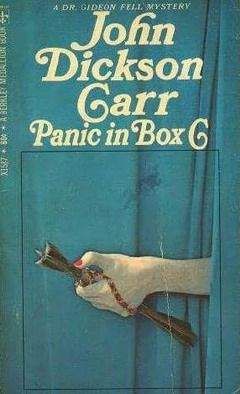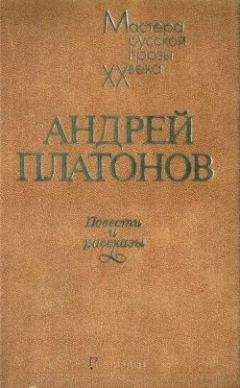Андрей Платонов - Рассказы.Том 7
Во всякой работе для солдата есть воспоминание о мирной жизни, и поэтому он трудится со старанием и чувством любви, словно пишет домой письмо. Капитан Еремеев знал это солдатское свойство.
Саперы понимали такое слово своего командира и строили одинаково истово и прочно и большой мост и малую переправу. И теперь они, как и прежде, вошли в холодный поток реки и стали заправлять сваи в подводный глубокий, заматерелый грунт.
Загоруйко устроился на подмостьях и бил бабкой по свае для первой ее усадки в верхнюю мякоть грунта. Лука Семенович доводил рубанком маломерные бревна для ездового настила моста. Он любил дерево, и, работая, обращая дерево в изделие, он думал, что рождает из него живое полезное подобие человека, будь то мост, или дом, или просто житейская утварь. Азербайджанец Музаферов, работавший до войны крепильщиком в Донбассе, готовил предмостье. Он работал землю, трамбуя подходы к мосту. Горы земли, которую ему подвозили на грузовиках и подводах, он превращал в правильный, плотный профиль дороги. Музаферов не жалел себя. Его большое, мощное тело двигалось точно и скоро, и его руки на виду создавали из беспорядочной земли новый маленький мир.
«Гвардеец! — подумал о Музаферове капитан Еремеев, наблюдая его. — Хорошо бы, если б моя мысль работала так же ладно, как мускулы Музаферова».
Еремеев за свою жизнь построил около сотни мостов. Теперь он заботился более всего о скорости работы, и по ночам, в бессонные часы, и под огнем врага он думал одну и ту же думу, воодушевляющую его, — о том, как расставить людей на линии работы, чтобы один торопил другого ходом своего труда, как наладить предварительную разведку полезных ископаемых и подручных материалов в районе строительства и заранее заготовить их, когда это бывает возможно. Он хотел довести скорость строительства шестидесятитонного деревянного моста до десяти погонных метров в час.
В два часа пополудни к Еремееву пришел связист с местного промежуточного узла и доложил, что связь восстановлена и на имя капитана получена телеграмма. Еремеев прочитал телеграмму — это был приказ о постройке моста через Горынь-реку в шестнадцатичасовой срок; мост должен быть готов к шести часам утра следующего дня.
Еремеев написал в ответ, что мост будет готов к пропуску транспорта сегодня в восемнадцать часов — через четыре часа, и связист ушел.
Помполит лейтенант Демьянов обратился к командиру с предложением, что сегодня вечером нужно провести беседы по ротам.
— Это важно, — сказал Еремеев. — Но лучше отсрочим беседу на завтра. Сегодня вечером сон и отдых для бойцов будет для них всей политработой. А сейчас нужно, чтобы на кухне приготовили и дали каждому прямо на мост по куску горячего мяса с хлебом и по сто граммов водки. Ты пойди распорядись, товарищ Демьянов, и сам посмотри, чтоб исполнено было исправно.
— Есть! — сказал лейтенант.
Без четверти в восемнадцать часов к мосту подъехал «виллис» с двумя офицерами танковых войск.
— Как мост, товарищ гвардии инженер-капитан? — спросили они у Еремеева.
— Стружки с верхнего настила не убраны, товарищ гвардии майор! — ответил капитан.
— Ничего, в них наши машины не увязнут, капитан.
Через час к мосту на проход подошел танковый корпус. Командир корпуса генерал- майор вышел из автомобиля и, стоя на мосту, пропускал все свои машины, пока не прошла последняя.
Затем он обратился к Еремееву, находившемуся возле него:
— Благодарю вас, гвардии инженер-капитан. Я, сознаюсь вам, не ожидал, что вы справитесь с работой. Вы выиграли для нас времени целую ночь, мне теперь легче выиграть сражение. Спасибо, гвардеец!
Генерал поцеловал капитана, сел в машину и исчез в сумраке ночи.
ПОЛОТНЯНАЯ РУБАХА
Дело было во время войны. Я лежал в госпитале, в просторной горнице деревенского дома, а дом тот стоял на берегу озера, недалеко от Минска. Рядом со мною лежал раненый танкист, старшина Иван Фирсович Силин. Он был ранен в грудь навылет; наружный воздух, как ему казалось, проникал в него через рану до самого сердца, и Силин постоянно зябнул. Первые дни Иван Силин лежал в лихорадочном бреду или в дремотном забытьи и говорил со мною мало. Он спросил у меня только, чей я сам и откуда родом, — и умолк. Должно быть, Силин хотел узнать, не земляк ли я ему, не дальний ли родственник. Это ему нужно было знать на случай своей смерти, чтобы я, вернувшись на родину, рассказал там о Силине его семейным и близким людям. Однако я родился далеко от Силина.
— Нет, ты не тот! — вздохнул Силин.
— Не тот, — сказал я.
Через неделю Ивану Фирсовичу стало лучше; дышать он начал свободнее, и смертная синюха сошла с его лица. Теперь он уже более походил на самого себя, и я увидел его серые глаза, заблестевшие жизненной силой, и широкое, рябое, доброе лицо, мягкое, как пашня.
— Ты не спишь? — спросил он у меня.
— Нет. А что?
— Так. Умирать неохота.
— А мы не будем.
— Будем-то будем, — сказал Иван Силин, — как не будем? Да не скоро.
— Ну и что ж! — ответил я ему. — Если не скоро — это не беда.
— Беда! Как не беда! — сказал Силин. — Я никогда не хочу помирать! Сто лет проживу — не захочу, и ты не захочешь.
— Я бы лет в сто шестьдесят пожалуй бы захотел.
— Врешь. Опять бы прибавки попросил, опять бы капли пил и пульс считал.
— Кто ее знает…
— Как — кто ее знает? — рассерчал Иван Фирсович. — Да я знаю! Мне вот мать, родная моя мать, умирать никогда не велела! И чего со мной не было, — из другого бы давно весь дух вышел, и из меня выходил, — сколько раз я кровью весь исходил, да напоследок сожмусь в последний остаток, разгневаюсь весь, сберегу одну живую каплю крови и от нее опять согреюсь и отдышусь. И вот живу и буду жить, хоть огонь прошел меня насквозь и две дырки в легких оставил, дышать трудно, холодно мне дышать…
И Силин рассказал про свою жизнь, что с ним было.
— Я начал помнить жизнь с того утра, как я проснулся, прижавшись к матери. Я всегда спал рядом с матерью, у нас была в комнате одна железная кровать, и еще деревянный стол, и две табуретки. Отца у меня не было, он умер давно, я его совсем не помню. Остались мы с матерью двое на свете и стали жить. Это было еще до революции, я тогда родился. Жили мы так бедно, как во сне теперь может присниться: у нас ничего не было, ничего не хватало — ни хлеба с картошкой, ни дров в зиму, ни керосину для света, ни одежды никакой, и хозяин дома из комнаты гнал — за то, что матери нечем было платить за комнату, рубль в месяц. Мать работала поденщицей, она делала всякую работу, что люди ей давали, — белье стирала, полы мыла, дрова колола, возле умирающих сидела, как бы вот при нас с тобой… Она за все бралась, лишь бы меня чем было кормить, лишь бы меня вырастить, а самой потом умереть. Разве можно было жить в той злостной жизни! Рассерчать надо было, прогневаться всем народом, — да это случилось позже, а мы тогда мучились… А, да не о том я все рассказываю! Я тебе про сердце свое хочу рассказать, что оно чувствовало. Много говорить мне некогда, дыхания не хватит… От голода я рос тихо, долго был маленьким. И помню, как я горевал, как плакал, когда мать уходила на работу, до вечера я тосковал по ней и плакал. И где бы я ни был, я всегда скорее бежал домой, со сверстниками-ребятишками я играл недолго — скучать начинал; за хлебом в лавку пойду, обратно тоже бегу и от хлеба куска не отщипну, весь хлеб целым приносил. А вечером мне было счастье. Мать укладывала меня спать и сама ложилась рядом; она всегда была усталая и не могла со мною сидеть и разговаривать. И я спал, я сладко спал, прижавшись к матери; это было мое время. Никого и ничего у меня не было на свете, все было чужим вокруг нас; не было у меня ни одной игрушки; помню какой-то пустой пузырек, его я нашел во дворе, и еще обглоданную сломанную деревянную ложку, я не играл ими, а держал их в руках, перекладывал их и думал что-то. Была у меня только одна родная мать. И к ней я прижимался, я целовал ее нательную рубаху и гладил рубаху рукою, я всю жизнь помню ее теплый запах, этот запах для меня самое чистое, самое волнующее благоухание… Ты этого, наверно, пе понимаешь?
— Нет, — ответил я. — Моя мать умерла при моих родах, я ничего о ней не знаю, и отца не помню.
— Это плохо… Тебе плохо! — сказал Иван Фирсович. — Кто ни отца, ни матери не помнит, тот и солдатом редко бывает хорошим, я это замечал…
Он отдышался раненой, больной грудью и опять заговорил о своей жизни:
— Утром мать подымалась рано, а я держался за ее рубаху и не отпускал от себя. Мать жалела меня, и чтобы я не скучал по ней, когда ее нету, она отдала мне свою нательную рубаху, а она у нее была одна. И когда мне было страшно или скучно, я прижимал к себе материнскую рубаху и целовал ее, — тогда я словно чувствовал мать около себя, и мне бывало легче. Рубаха матери сшита из полотна, сколько я ни теребил ее, а она все цела… Незадолго до Октябрьской революции, мне было лет девять-десять, мать моя умерла. Она заболела воспалением легких; теплой одежды у нее не было, сентябрь стоял холодный, и она умерла. Перед смертью она тосковала и целовала меня, — она все боялась оставить меня одного на свете, она боялась, что меня затопчут люди, что я погибну без нее и меня даже не заметит никто. Умирая, она велела мне жить. Она обняла меня, а другую руку подняла на кого-то, будто защищая меня, — да только рука ее тут же опустилась от слабости.