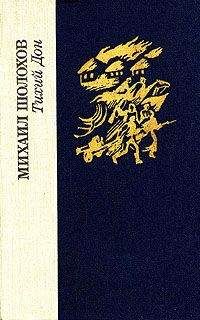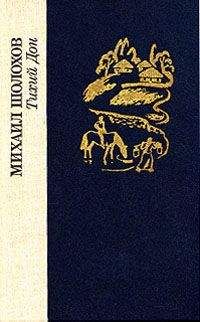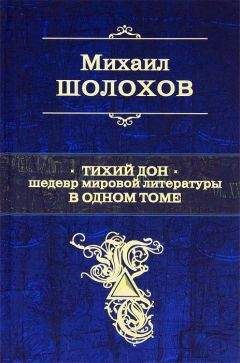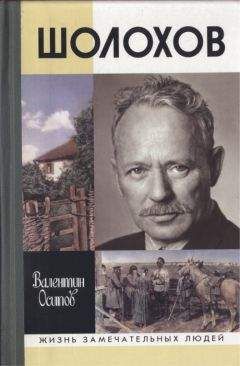Михаил Шолохов - Тихий Дон
Мишка заметно побледнел. Он ждал этого разговора. Слегка заикаясь от волнения, он сказал:
– Не с чего моим глазам зажмуряться! А ежели б Петро меня поймал, что бы он сделал? Думаешь, в маковку поцеловал бы? Он бы тоже меня убил. Не для того мы на энтих буграх сходились, чтобы нянькаться один с другим! На то она и война.
– А свата Коршунова? Старика мирного убивать, это – тоже война?
– А как же? – удивился Мишка. – Конечно война! Знаю я этих мирных! Такой мирный дома сидит, портки в руках держит, а зла наделает больше, чем иной на позициях… Самое такие, как дед Гришака, и настраивали казаков супротив нас. Через них и вся эта война зачалась! Кто агитацию пущал против нас? Они, вот эти самые мирные. А ты говоришь – «душегуб»… Тоже, нашла душегуба! Я, бывало, ягнока или поросенка не могу зарезать и зараз знаю, что не зарежу. У меня на эту живность рука не налегает. Другие, бывало, режут – и то я уши заткну и ухожу куда-нибудь подальше, чтобы и не слыхать и не видать.
– А свата…
– Дался вам этот сват! – досадливо перебил Мишка. – От него пользы было, как от козла молока, а вреду много. Говорил ему: выходи из дому, не пошел, ну и лег на том месте. Злой я на них, на этих старых чертей! Животную не могу убить, – может, со зла только, а такую, вы меня извиняйте, пакость, как этот ваш сват или другой какой вражина, – могу сколько угодно! На них, на врагов, какие зря на белом свете живут, у меня рука твердая!
– Через эту твою твердость ты и высох весь, – язвительно сказала Ильинична. – Совесть небось точит…
– Как бы не так! – добродушно улыбнулся Мишка. – Станет меня совесть точить из-за такого барахла, как этот дед. Меня лихорадка замучила, вытрепала всего начисто, а то бы я их, мамаша…
– Какая я тебе мамаша? – вспыхнула Ильинична. – Сучку кличь мамашей!
– Ну, ты меня не сучи! – глуховато сказал Мишка и зловеще сощурил глаза. – Я подряда не брал всего от тебя терпеть. А говорю тебе, тетка, толком: за Петра не держи на меня сердца. Сам он нашел, чего искал.
– Душегуб ты! Душегуб! Ступай отсюда, зрить я тебя не могу! – настойчиво твердила Ильинична.
Мишка закурил снова, спокойно спросил:
– А Митрий Коршунов – сват ваш – не душегуб? А Григорий кто? Про сынка-то ты молчишь, а уж он-то душегуб настоящий, без подмесу!
– Не бреши!
– Со вчерашнего дня не брешу. Ну а кто он, по-твоему? Сколько он наших загубил, об этом ты знаешь? То-то и оно! Коли такое прозвище ты, тетушка, даешь всем, кто на войне был, тогда все мы душегубы. Все дело в том, за что души губить и какие, – значительно сказал Мишка.
Ильинична промолчала, но, видя, что гость и не думает уходить, сурово сказала:
– Хватит! Некогда мне с тобой гутарить, шел бы ты домой.
– У меня домов, как у зайца теремов, – усмехнулся Мишка и встал.
Черта с два его можно было отвадить всякими этими штучками и разговорами! Не такой уж он, Мишка, был чувствительный, чтобы обращать внимание на оскорбительные выходки взбесившейся старухи. Он знал, что Дуняшка его любит, а на остальное, в том числе и на старуху, ему было наплевать.
На следующий день утром он снова пришел, поздоровался как ни в чем не бывало, сел у окна, провожая глазами каждое движение Дуняшки.
– Часто наведываешься… – вскользь бросила Ильинична, не отвечая на Мишкино приветствие.
Дуняшка вспыхнула, взглянула на мать загоревшимися глазами и опустила взгляд, не сказав ни слова. Усмехаясь, Мишка ответил:
– Не к тебе хожу, тетка Ильинична, зря ты горишь.
– Лучше б ты вовсе забыл дорогу к нашему куреню.
– А куда же мне идтить-то? – посерьезнев, спросил Мишка. – По милости вашего свата Митрия остался я один, как глаз у кривого, а в пустой хате бирюком не просидишь. Хочешь ты или не хочешь, тетушка, а ходить я к вам буду, – закончил он и сел поудобнее, широко расставив ноги.
Ильинична внимательно посмотрела на него. Да, пожалуй, такого не так-то просто выставить. Бычье упорство было во всей сутуловатой Мишкиной фигуре, в наклоне головы, в твердо сжатых губах…
После того как он ушел, Ильинична проводила детей во двор, сказала, обращаясь к Дуняшке:
– Чтобы больше и ноги его тут не ступало. Поняла?
Дуняшка, не сморгнув, глянула на мать. Что-то присущее всем Мелеховым на миг появилось в бешеном прищуре ее глаз, когда она, словно откусывая каждое слово, проговорила:
– Нет! Будет ходить! Не закажете! Будет! – и, не выдержав, закрыла лицо передником, выбежала в сени.
Ильинична, тяжело переводя дыхание, присела к окну, долго сидела, молча покачивая головой, устремив невидящий взгляд куда-то далеко в степь, где серебряная под солнцем кромка молодой полыни отделяла землю от неба.
Перед вечером Дуняшка с матерью – не примирившиеся и молчаливые – ставили на огороде у Дона упавший плетень. Подошел Мишка. Он молча взял из рук Дуняшки лопату, сказал:
– Мелко роешь. Ветер дунет, и опять упадет ваш плетень. – И стал углублять ямки для стоянов, потом помог поставить плетень, приклячил его к стоянам и ушел.
Утром он принес и поставил возле мелеховского крыльца два только что обструганных грабельника и держак на вилы; поздоровавшись с Ильиничной, деловито спросил:
– Траву в лугу косить думаете? Люди уже поехали за Дон.
Ильинична промолчала. Вместо матери ответила Дуняшка:
– Нам и переехать-то не на чем. Баркас с осени лежит под сараем, рассохся весь.
– Надо бы спустить его весной на воду, – укоризненно сказал Мишка. – Может, его законопатить? Без баркаса вам будет неспособно.
Дуняшка покорно и выжидающе взглянула на мать. Ильинична молча месила тесто и делала вид, будто весь этот разговор ее вовсе не касается.
– Конопи есть у вас? – спросил Мишка, чуть приметно улыбаясь.
Дуняшка пошла в кладовую, принесла охапку конопляных хлопьев.
К обеду Мишка управился с лодкой, зашел в кухню.
– Ну, стянул баркас на воду, нехай замокает. Примкните его к карше, а то как бы кто не угнал. – И снова спросил: – Так как же, тетушка, насчет покоса? Может, пособить вам? Все одно я зараз без дела.
– Вон у нее спроси. – Ильинична кивнула головой в сторону Дуняшки.
– Я у хозяйки спрашиваю.
– Я тут, видно, не хозяйка…
Дуняшка заплакала, ушла в горницу.
– Тогда прийдется пособить, – крякнув, решительно сказал Мишка. – Где тут у вас плотницкий инструмент? Грабли хочу вам поделать, а то старые, должно, негожи.
Он ушел под сарай и, посвистывая, стал выстругивать зубья на грабли. Маленький Мишатка вертелся около него, умоляюще засматривал в глаза, просил:
– Дяденька Михаил, сделай мне маленькие грабли, а то мне некому сделать. Бабуня не умеет, и тетка не умеет… Один ты умеешь, ты хорошо умеешь!
– Сделаю, тезка, ей-богу, сделаю, только отойди трошки, а то как бы тебе стружка в глаза не попала, – уговаривал его Кошевой, посмеиваясь и с изумлением думая: «Ну до чего похож, чертенок… Вылитый батя! И глаза, и брови, и верхнюю губу так же подымает… Вот это – работенка!»
Он начал было мастерить крохотные детские граблишки, но закончить не смог: губы его посинели, на желтом лице появилось озлобленное и вместе с тем покорное выражение. Он перестал насвистывать, положил нож и зябко шевельнул плечами.
– Михайло Григорич, тезка, принеси мне какую-нибудь дерюжку, я ляжу, – попросил он.
– А зачем? – поинтересовался Мишатка.
– Захворать хочу.
– На что?
– Эх, до чего ты неотвязный, прямо как репей… Ну, пришло время захворать, вот и все! Неси скорей!
– А грабли мои?
– Потом доделаю.
Крупная дрожь сотрясала Мишкино тело. Стуча зубами, он прилег на принесенную Мишаткой дерюгу, снял фуражку и накрыл ею лицо.
– Это ты уже захворал? – огорченно спросил Мишатка.
– Готов, захворал.
– А чего ты дрожишь?
– Лихорадка меня трясет.
– А на что зубами клацаешь?
Мишка из-под фуражки одним глазом взглянул на своего маленького докучливого тезку, коротко улыбнулся и перестал отвечать на его вопросы. Мишатка испуганно посмотрел на него, побежал в курень:
– Бабуня! Дядя Михаил лег под сараем и так дрожит, так дрожит, ажник подсигивает!
Ильинична посмотрела в окно, отошла к столу и долго-долго молчала, о чем-то задумавшись…
– Ты чего же молчишь, бабуня? – нетерпеливо спросил Мишатка, теребя ее за рукав кофты.
Ильинична повернулась к нему, твердо сказала:
– Возьми, чадунюшка, одеялу и отнеси ему, анчихристу, нехай накроется. Это лихоманка его бьет, болезня такая. Одеялу ты донесешь? – Она снова подошла к окну, глянула во двор, торопливо сказала: – Постой, постой! Не носи, не надо.
Дуняшка накрывала своей овчинной шубой Кошевого и, наклонившись, что-то говорила ему…
После приступа Мишка до сумерек возился с подготовкой к покосу. Он заметно ослабел. Движения его стали вялы и неуверенны, но грабли Мишатке он все же смастерил.
Вечером Ильинична собрала ужинать, усадила за стол детей, – не глядя на Дуняшку, сказала: