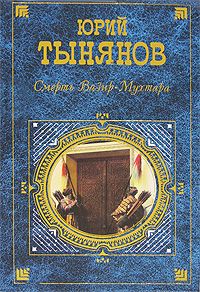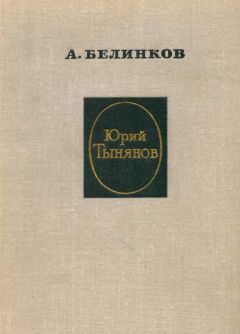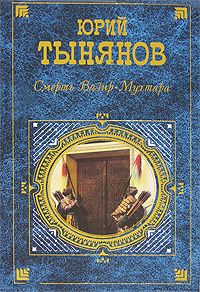Юрий Тынянов - Смерть Вазир-Мухтара
Бричка – та же квартира: в северной комнате – вина и припасы, в южной – платье и книги, все, что нужно человеку. Только меньше пустоты и движений. За человека движутся лошади.
Оседлая его деятельность здесь, на простой, пыльной дороге, изумила его.
Сколько разговоров, улыбок, разнородных покроев собственного невеселого лица.
Всласть он наговорил иностранных слов иностранным людям.
Всласть он наигрался в сумасшедшую игру с авторами, подобную игре на клавиатуре, закрытой сукном.
Жил он не в себе, а в тех людях, которые поминутно с ним бывали, а все они были умники либо хотели ими быть, все были действователи: военные, дипломатические, литературные.
Какие ж это люди?
Они жили по платью, по платью двигались: куда платье, туда и они.
– Александр! Ты что ж, опять заснул? Видишь, привал. Разве ты не чувствуешь, что кони стали? Доставай вина, телятины. Сядем под дуб. Ямщик, присаживайся, голубчик. Ты какой губернии?
Леночка просила в последний миг расставанья:
– Alexandre, приезжайте к нам в Карлово.
(Карлово – лифляндское имение Фаддея, заработал себе на старость.)
Тогда же дала свой локон и всхлипнула. Подумать всерьез.
Кавказская девочка исчезла из поля зрения.
Дуб у дороги, похожий на корявую ростральную колонну петербургской биржи.
Накануне отъезда он был на колонне, взбирался на нее с неясной целью. Вид был великолепен – разноцветные кровли, позолота церковных глав, полная Нева, корабли и мачты.
Когда-нибудь взойдут на столб путешественники – когда столб переживет столицу – и спросят: а где стоял дворец? где соборы? Будут спорить.
Родофиникин, финик-то, так ведь и не выдал за месяц вперед, ускромил. Ах ты финик!
Ах ты азиатское начальство, ваше превосходительство, пикуло-человекуло, мать твою дерикуло!
И напоминать нельзя, не то торопить будет в Азию.
Станция.
– Вы что, голубчики, читаете?
– Объявление новое, о войне, вышло.
– Так какое же новое? Оно ведь в апреле вышло, схватились. Мы уже, почитай, месяца как три деремся.
– Мы не знаем, только опять персияны с нами дерутся, с нас уж рекрутов и то берут, берут. Все с нашей деревни.
– Как персияне? У нас война теперь с турками.
– Для чего с турками? Написано: персияны.
– Ты не тут читаешь. Тут о причинах войны.
– Все одно, что причина, что война. Мы не знаем. С нашей деревни, с Кривцовки, рекрутов побрали.
Катенька – вот истинно милая женщина. Явился к ней попрощаться, а она в амазонке.
– Я с вами еду, Александр.
– Куда вы, Катенька, что с вами, милая! Как она тогда вздохнула.
Оказалось: все у нее перепуталось. Стала Катенька патриоткой, как все актерки, купила амазонку – из театра Большого собралась на театр военных действий.
– Бог с вами, Катенька, ну где вам воевать. Да и я не на войну еду.
Старый солдат сидел в будке при дороге и спал.
– Дед, ты что здесь делаешь?
– Стерегу.
– Что стережешь?
– Дорогу.
– Кто ж тебя поставил здесь дорогу стеречь?
– По приказу императора Павла.
– Павла?
– Тридцатый год стерегу. Ходил в город узнавать, говорят, бумага про харчи есть, а приказ затерялся. Я и стерегу.
– Так тебя и оставили стеречь?
– А что ж можно сделать? Говорю, приказ затерялся. Прошение подавали годов пять назад, ответу нет. Харчи выдают.
На станции смотритель сказал обождать – нет лошадей. Он прошелся по двору. Ямщик засыпал овес лошадям.
– Ты что, любезный, свободен?
– Сейчас свободен, да смотритель сказал генерала ждать. Гривну ямщику на чай.
Смотрителю:
– Ты что, любезный, генерала ждешь? Давай-ка лошадей. Как он заторопился.
Так следовало вести себя: начинать с ямщика, а не со смотрителя.
А он в Петербурге понес свое «Горе» прямо министру на цензуру. Занесся. Тот и так и сяк, любезен был до крайности, и ничего не вышло. Теперь «Горе» у Фаддея.
Он ведь только человек, ему хотелось иметь свой дом. Он боялся пустоты – и только. О Персии он пока думать не хочет. На день довольно. Все просто в мире и, может быть, лучший товарищ – Сашка.
Много ли человеку нужно.
Воронежские степи.
Бычок мычал внизу, в долине. Двое, очень медленно и лениво, везли воз сена на волах, выбираясь на верхнюю дорогу.
Волов кусали слепни, и они не шли. Один, толстый, тянул их за рога, другой с воза кричал отчаянно и бил волов палкой. Правый вол остановился решительно, словно на этом месте уже сто лет так стоял. За ним другой. Тогда человек спрыгнул с воза стремительно, лег в канаву и стал курить.
Солнце пекло. Молодайка внизу пела.
– Скидаю маску. Новый свет для меня просиял.
– Чего прикажете? – спросил Сашка.
– Мы сюда сворачиваем, друг мой. Ямщик, мы здесь заночуем.
2
Натальюшки, Марьюшки,
Незнамые девушки.
ПесняЛошади, распряженные, щипали лениво траву и дымились. Ямщик все пощупывал им бока. Когда они поостыли, спросил у молодайки воды, и лошадь недвижно пила из ведра, осторожно храпя и вздыхая синими ноздрями.
Молодайка покачивалась на высоких бедрах под плавный ход ведер. У нее было плоское смугло-бледное лицо, босые крупные ноги.
В доме жил только дед да она.
Муж, казак, уж год не слал вестей. Она напасала сена, дед ходил изредка в извоз. Останавливались у нее и проезжающие.
Работала она, по видимости, плавно и медленно, все ей давалось легко: так она носила ведра.
Грибоедов приказал Сашке нести в дом припасы, вино.
Сели ужинать. Сашка с ямщиком ужинали во дворе, разговаривали со стариком, а молодайка прислуживала Грибоедову. Он сквозь открытое окно слышал чавканье ямщика, хлюпанье Сашки и тот неторопливый и нелюбопытный разговор, который ведут между собою незнакомые простолюдины.
– Как звать тебя, милая?
Молодайка, так же все покачиваясь, накрыла грубой скатертью стол. Она была вовсе не стройна, слишком широка, но ноги были очень легки. Лицо тоже широкое, бледное, словно она страдала, не теперь, а давно, какой-то болезнью.
– Марьей, – она улыбнулась.
– А теперь, значит, едете туды обратно? – спрашивал дед Сашку за окном.
– Мы теперь получили назначение, – отвечал Сашка, прихлебывая.
– Ага, – дед удовлетворился.
– Садись, Маша, ужинать будем, – сказал Грибоедов.
– Мы уже отужинали, – ответила Марья и присела в стороне на край стула, стала смотреть в окно.
Ямщик за окном начал икать, чтоб показать деду, что сытно поел, и приговаривал:
– Тьфу, господи.
– Так одни и живете? – спрашивал Сашка.
– Одни, – равнодушно отвечал дед.
Вдруг Марья широко и сладко зевнула большим ртом. Грибоедов тотчас выпил за ее здоровье.
– Искупаться тут у вас можно? Речка недалеко?
– Речка недалеко, да мелка. Ребята в ней только купаются. Можно баньку стопить.
– Стопи, Маша, – попросил Грибоедов.
Маша, не очень довольная, размялась и пошла во двор. В низенькой баньке, что стояла травяным гробом во дворе, было жарко, и глиняный пол пропах столетним дымком.
Ямщик спал в бричке. Сашка свернулся под гунькой и непробудно вздыхал в тридесятом царстве. Маша сидела на крылечке.
– Маша, – сказал Грибоедов, – ну-ка подвинься. И он обнял Машу.
3
Утром, часов в шесть, ямщик постучал кнутом в окно. Грибоедов проснулся и махнул ему голой рукой сердито. Ямщик отошел.
Грибоедов спал без белья, было очень жарко, а от мошек натянул на себя грубую простыню. В сенцах копошился дед. Потом начался под окошком обряд: ямщик подправлял подпругу, кричал на пристяжную, она дергала мордой и колокольцами, а дед делал замечания:
– Хомут затяни. Натрет она веред.
– Ничего, – цедил самолюбивый ямщик. Дед щупал одну из пристяжных.
– Мышаки у твоего коня, такое дело.
– Ну да, мышаки, – сказал ямщик недовольно, однако послышались колокольцы – лошадь дернула головой, и ямщик крикнул: – Ну, ты!
Потом он сказал, уступая:
– Пойти к конскому лекарю на станции…
– Чего к лекарю, – говорил дед, – нужно коновала. Он клещами мышаки вытянет.
Грибоедову надоело. Он выглянул в окно. Бричка стояла уже запряженная, дед в тулупе и белых исподниках стоял с ямщиком у лошадей. Сашка под гунькой не шевелился. Грибоедов распахнул окно:
– Вот что, любезный, – сказал он ямщику, – скидывай вещи. Поезжай себе порожняком.
– А разве не поедете? – спросил ямщик недоброжелательно.
– Нет, не поеду. Вот тебе на водку.
Ямщик, как ошарашенный, стал отвязывать сундук и чемодан и составил их с азартом прямо к Сашкиному носу, видневшемуся из-под гуньки.
4
Праотец Иегуда ехал жарким днем на осле и заприметил по пути женщину с открытым коленом. Он захотел освежиться, и вошел к ней, и познал ее, а то, что женщина оказалась Тамарью, его невесткой, было случайностью или даже словесным остроумием библического рассказа. Таков, вероятно, был обычай всех путешественников, и даже апостолам полагалось брать с собой от селения до селения девицу, причем о назначении девиц евангелист попросту ничего не говорит.