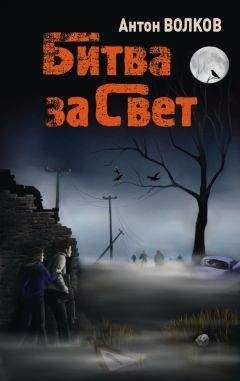Иван Шмелев - Детям (сборник)
– А что она сейчас сказала? – спросил Васька Сидора.
– У них свой разговор. А только, конечно, сказала.
– А ты знаешь? – спросил Васька.
– Знаю! Они все, значит, ее жалеют, Сахарную… Да вот вам…
Он взял Сахарную и перевел к кормушке Стальной. Сахарная покорно сунула голову в кормушку, и мы увидели, как Стальная отстранилась и тихо фыркнула.
– Видал? Кушай, значит, напоследок! Уж насмотрелся я на них! Да вот, водил я ее прошлым летом на травку, за водокачку… На денек, бывало, отведешь… Может, она и покрепчает, с травки-то… Так что же? Заскучали эти-то. Стоят да оглядываются, – куда, мол, подевалась… Такую ржу подняли! А вот, значит, как коновал завтра придет, биться начнут.
– Как биться?!
– Би-иться. Чуют на нем кровь, потому он лошадей бьет на живодерке. Ну и почнут копытами стучать, сердятся…
– Не давай ее! – шепнул мне Драп, и опять блеснули его глаза. – Не давай! Ты хозяин, твоя лошадь…
Я стоял, не зная, что мне делать. Да, я был тут «молодой хозяин», жалел Сахарную. А она выставила голову и смотрела в землю, точно раздумывала о чем-то. Впалые бока ее тяжело ходили.
– Сидор, – просительно начал я, чувствуя, как у меня сжимает в горле, – Сидор…
– Чего изволите?
– Ее на до… оставить…
– Да как же это можно-с!.. – сказал он, улыбаясь. – Папашенька не велят-с… Ее и ставить-то некуда, а завтра новую приведут.
– Ты ее спрячь… Ее можно вниз поставить, туда…
Она смотрела на нас – я видел. Она понимала все – я это чувствовал. Она смотрела на меня, на своего «хозяина». И я ничего не мог сделать. Драп стоял около нее и задумчиво гладил по отвислым влажным губам.
– Плачет! – крикнул Васька. – Ей-богу, плаче т!.. Тече т…
– Уж я знаю, – говорил Сидор, выколачивая о сапог трубку. – У ней теперь на сердце-то жуть… А солнышко-то как любят! У меня солнышко в заднее окошко видать, как садится к вечеру. И бьет оно тогда прямо к стойлам. И как ударит сюда, оне сейчас головы и повернут, и глядят…
Да, Сахарная плакала, плакала беззвучно. Из воспаленных глаз, из-под волосатых век тянулись мутные струйки и собирались во впадинах морды.
– Сидор, голубчик! Ты скажи, что коновал увел ее… Я потом папашу попрошу…
Васька и Драп стояли рядом, плечо к плечу, выжидая.
– Сидор! Я тебе сахару принесу… Сидор!
– Господин баринок! Да мне бы, верьте душе, самому бы легче было. Ничего не могу! Я должен приказание исполнять… Дисциплина! Ведь меня тогда приказчик, Василий Васильевич, в шею выгонит! Вы то подумайте! Я знаю, что ночь не усну, на сердце слеза кипит, а не могу…
– Ему денег жалко… – шипел сзади Драп. – Вали, ты здесь хозяин…
– Я хочу, Сидор! – крикнул я. – Я хозяин! Сведи ее вниз! Пожалуйста… У меня есть на голубей… У меня больше рубля есть… Сидор… Я тебе отдам…
– Мы тебе костей насобираем, гвоздей… – вмешался Васька.
– Не могу, – коротко сказал Сидор. – Говорите с папашенькой. Не могу.
Ничто не действовало. Сахарная уже отвернулась от нас и стояла понуро. Уже давно пора было уходить нам. Меня, конечно, разыскивали по соседним дворам.
Помню, мы все трое подошли к Сахарной. Прощались. Маленькая надежда еще была, – может быть, отец позволит. Но а если его нет дома? Иногда и по воскресеньям он ездил куда-то по делам в своем шарабане и возвращался поздно. А завтра, раным-рано, все уже будет кончено. Последний раз взглянули мы на приговоренную к смерти.
– Осерчали, молодой хозяин… – грустно сказал Сидор. – Не моя воля.
Когда мы выходили на помост, солнце било в глаза, и травка под водокачкой была яркая-яркая, и золотые цветы были так прекрасны. Так светло было кругом, так пышно дремали под солнцем зеленые ветлы на откосе. Тихие облачка недвижно стояли в небе. И было так тяжело на душе. Сидор стоял в дверях. И хмуро было его лицо с ярким шрамом.
Мы вяло брели по огородам. Уже не было утренней захватывающей радости и ожидания таинственного – что там? Что там – теперь это было уже известно.
Васька было пригласил Драпа и меня порыться в мусоре, но Драп только отмахнулся. Шел и грыз ногти. А я… я думал об отце. Когда мы подошли к воротам, дворник уже сообщил, покачивая головой, что меня часа два искали по всем улицам и что мне теперь попадет.
– Проси отца! – настойчиво сказал Драп.
– А папаша дома?
– Никак нет-с… Уехали верхом в Новый Иерусалим.
– Это далеко?
– Сказывали, верст[41] сорок… Обедать давно сели… Серчают на вас там…
Отец уехал… Верст сорок… Драп вывертом пустил камень в воробья, но промахнулся, и со звоном посыпались стекла старой галерейки.
– Я тебе все уши оборву! – кричал дворник, пускаясь за Драпом.
Я услыхал только топот ног по крыше сарая и грозный крик дворника.
V
День прошел вяло. В кабинете отца темно. Отец, должно быть, приедет только ночью. Я ходил из угла в угол и ждал, думая все об одном. Если бы приехал отец!
– Спать, спать!..
Я покорно бреду в детскую и задерживаюсь в темной передней. Что это? Через открытое окно я слышу голос:
– Воды отнюдь не давать! Да хорошенько проводить…
Отец! Он вернулся… Я уже слышу его быстрые шаги, уже хлопает дверь. Нет, теперь-то я не пойду спать. Сегодня воскресенье, и я знаю, что буду сидеть в кабинете долго-долго. Отец меня никогда не прогонит. Вот его свежий, веселый голос в столовой. Вот он говорит, чтобы зажгли в кабинете лампу.
– Ничего, не устал… – отвечает он на чей-то вопрос и идет в кабинет.
Я слышу, как со звоном высыпаются деньги и начинают пощелкивать счеты. К нему, к нему!..
Я проскальзываю в темный коридор, тихо вхожу в кабинет и усаживаюсь на большой клеенчатый диван. Здесь так хорошо тихо-тихо сидеть в полутемном уголке, прислонясь горячей щекой к холодящей клеенке дивана. Отец сидит за письменным столом. Горит лампа. Я слышу только короткий знакомый стук отсчитываемых монет: чок-чок-чок…
На столе груда медных денег, с краю счеты. Пальцы отца ставят все новые и новые кучки медяков. Я знаю хорошо. Вон самые крупные – идут ряд за рядом, как домики с трубами. Это пятаки. Четыре столбика по десяти пятаков и пятый сверху. Отец считает:
– Два с полтиной… да еще… два с полтиной…
Откладывает на счетах, и мне слышится, как и костяшки как будто повторяют за ним: «Чик-чик… два с полтиной…»
Вот маленькие, «тройчатки», кучки трехкопеечных, еще дальше – совсем маленькие, «семитки», – по две копейки. Много, много денег. Отец мне кажется самым богатым человеком. Каждое воскресенье он сидит вечером в кабинете и пощелкивает на счетах, складывает медные деньги в серенькие мешочки и потом отшвыривает эти мешочки с тупым звуком на пол, в уголок. Эти мешочки приносит к нему толстый приказчик Василий Васильевич. У этого Василия Васильевича какие-то странные глаза. Стоя в дверях кабинета, он всегда говорит с отцом, а одним глазом пристально смотрит на меня, а если заговорит со мной, этот глаз начинает глядеть вбок. Говоря с отцом, Василий Васильевич переминается с ноги на ногу, очень тихо сморкается в красный платок, голос его становится совсем тонким, так что я даже боюсь, что у него горло тоже сделается тонким и перервется. Он, очевидно, не любит или не умеет говорить, потому что всегда почти повторяет только одно:
– Будьте покойны-с… Понимаю-с…
При этом у него выходит: «Будькойныс» и «пымасс».
Я знаю, что отец любит, чтоб я сидел на диване в уголку. Он всегда, бывало, кликнет:
– Эй, капитан! Лезь на свое место!
Иногда, постучав на счетах, он обернется, взглянет на меня, кивнет головой, подмигнет и опять начинает считать. И дремлется мне, и тихо, и тепло на душе.
Я сижу, а он считает, иногда спрашивает:
– Ну, как наши дела? Два с полтиной… да полтора… Ну, скажи, что хорошенького? Двадцать один, сорок два… На коленках не стоял?
– Нет… А сегодня мне Гриша песенку новую спел.
– Ага. Ну-ка… Сто сорок пять да тридцать четыре. А? Ну-ну…
– А вот так…
Анки-дранки,
Девер-друг,
Тибер-фабер,
Тибер-фук.
Ани-драни,
Ветер-сани,
И-ни-и-ни-и-ни-ам!..
– Та-ак… Хорошо… Спутал ты меня…
– Папаша, а я сегодня на водокачке был…
У меня захватывает в груди. Я буду просить сейчас… Он сделает… А вдруг? Вдруг он скажет, как говорит иногда, – «не твое дело»?
– Мы с Васькой были и Драп…
– Что еще? Какой Драп?
– А мальчик у сапожника…
– Погоди ты!.. Опять все перепутал!.. И что ты, братец, лезешь с пустяками! Сиди и молчи.
Я долго-долго смотрел в одну точку, на склоненную голову отца с прядью волос надо лбом. Я щурю глаза, и голова его делается маленькой-маленькой, начинает уходить дальше, дальше… Дремлется. И вдруг перед глазами выдвигаются лошадиные морды. Я вздрагиваю и открываю глаза.
– Папаша, – едва выговариваю я. – Папаша… Сахарную… завтра…
– Сиди смирно!
Я так ясно вижу, как завтра огромный коновал, страшный, с зверским лицом разбойника, приходит к Сидору. Он накидывает петлю и тянет Сахарную в дверь водокачки. Она упирается; но Сидор выталкивает ее. Смотрят лошади, голуби бьются под крышей. Они вылетают из двери и кружатся в воздухе, а коновал уже ведет Сахарную по огородам. Она не может идти, у ней кружится голова, она ничего не видит. А коновал тянет и тянет. Он нагнул голову и не замечает, как Васька и Драп подкрадываются с боков, а я с луком и стрелами выскакиваю из-за кучи навозу. У Драпа чугунка. Мы отбиваем Сахарную, коновал гонится, но у него очень тяжелые сапоги, и мы несемся во весь дух, и Сахарная, конечно, понимает, в чем дело, и напрягает последние силы. Гришка помогает нам запереть ворота.