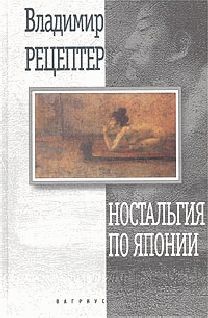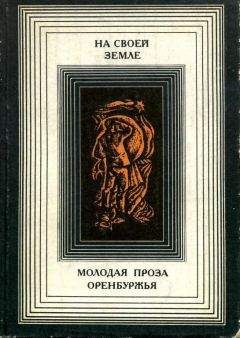Петр Краснов - Понять - простить
— Не получал ничего.
— Ну, конечно, не могла тебя забыть… Писала на-авось в штаб армии.
— Я не получил.
— Да всё равно, — сказала Ара и закурила папиросу. — Может, и не все равно.
— Нет, все равно, — отмахнулась Ара, — ну так вот: просто… Приехал за мной Муратов и увез в Париж…
Несколько минут Ара молча курила, следя за дымом. Потом сказала с печальной, едкой ноткой горечи:
— Вот и вся моя история. Второй год живу в Париже. — Она тряхнула кудрями. — Ничего! Живу… Таких, как я, много теперь.
— Ара… А жаль, что так вышло. Ты бы могла детей иметь. Я думаю, красивые у тебя дети вышли бы.
— От кого? — со злой усмешкой бросила Ара.
— От мужа, конечно. — То-то! Кто женился бы на мне?..
— А знаешь, — внимательно вглядываясь в ее полное круглое русское лицо, вдруг покрасневшее под слоем пудры, сказал Светик, — я в Петербурге крепко любил тебя, и не будь такое время…
— И пажа бы простил? — сказала она с грубой иронией.
Светик не нашелся, что ответить.
— То-то, все вы такие! Рыцари без страха и упрека. Вы — новые люди, когда дело касается — поиграть да бросить, но когда дело коснется вас самих, о! тогда! Честь имени… Моя фамилия… Семья! Подавай голубиную чистоту.
— Семья, — тихо сказал Светик, — это святыня. Она требует чистоты матери. Моя мать… Мать моего отца, бабушка Варвара Сергеевна, это, Ара, святые женщины.
— А мы грешницы… — со злобой перебила Ара. — То-то ты, сын и внук святых женщин, сидишь у меня. И знаешь, Светик, что говорить о том, что было. Надоело это plus-que-parfait… (Давно прошедшее (фр.)) Было… было… было… Была Россия, был добрый, славный, честный царь, была доблестная армия, была семья, были честные женщины, были матери и дети — все, милый мой, было… Так ведь были же и социалисты, была и придворная камарилья, изменники-генералы и министры, были и шкурники, укрывавшиеся под флагом Красного Креста, были и трусы, были и самопалы, отстреливавшие себе пальцы, были и Ары, шалившие с пажами, была и моя мамаша, любовные шашни не скрывавшая от меня, — и они-то все съели твою Святую
Русь с дворянскими гнездами и Лизами Калитиными, от неразделенной любви идущими в монастырь. Война все сломила. Семья… Пролетная птица, Светик, гнезда не вьет, пока не прилетит на место. У бродячей собаки щенят не бывает, а мы хуже пролетных птиц, потому что — куда мы летим? Чего ждем? Мы хуже бродячих собак, и для бродячей собаки добрая душа найдется. А для нас?..
— Какая жестокая безотрадность! Без семьи, Ара, мир погибнет.
— Ничего он не погибнет. Иным станет, но не погибнет. Семья погибла, но дети-то все продолжают рождаться. Вспомни, у Гейне:
Наши женщины рожают,
Наши девушки им в этом
Соревнуют, подражают.
Этого добра не убывает.
Дур на свете все еще много.
— Но какие это дети! Страшно подумать. Без материнской ласки, без семьи.
— Дети пролетариата. Владыки мира… Они хотят владеть всеми нами и пусть владеют.
— Это ужасно, Ара!
— Ужасно?.. Нет… Это правда. Здесь, в Париже нашумел роман Victor'a Margueritte'a — "La garconne" ("Холостячка", эмансипированная девица (фр.)). Автора за него лишили ордена Почетного легиона. Какие, подумаешь, лицемеры!.. Делать — можно. Но сказать, указать, в какую бездну катится мир и Франция! Как можно! Непатриотично! Все обстоит благополучно. А между тем, какая девушка теперь не «garconne»? Наше равноправие сказалось прежде всего в разврате. Вы путались с горничными, ездили к девкам, вы посещали воспетые Куприным дома, а потом спешили к аналою, чтобы с благословения священника сорвать цветок невинности, поднести молоденькой девушке свои увядшие силы и согревать ее догорающим огнем страсти. А почему мы не можем? Не вы ли в своей литературе, с театральных подмосток вот уже тридцать лет кричите о том, что и в любви женщина свободна, как мужчина? Ну… У тебя кто была первая? Я думаю — ты и не помнишь! А я помню. Паж… Волосы бобриком, прогулка на лыжах, пустая рига на окраине Павловского парка… Эх! Вы! Равноправие — так равноправие.
— Не в этом равноправие, Ара. — А в чем же?
— Равноправие в образовании, в уме. Жена… Ара опять его перебила.
— Жена! А жена да боится своего му-ужа! Я слыхала это от диакона… А подумал апостол Павел, что муж будет измываться над этой самой боящейся его женой? Брак и семья всегда были уродливы. А теперь — они ужасны. Ты пойми: дома, собственности — нет. Везде — отели и пансионы. Ни званых вечеров, ни обедов. И жена больше не собственность, а тоже как пансион или комната с мебелью.
— Тоска, Ара.
— Да, милый, тоска. Мне вспомнилось стихотворение одной прелестной дамы. А сколько в нем тоски… И правды сколько!
— Какое стихотворение?
— Слушай:
Пары томно танцуют fox-trott
В кольцах пестрых, в цепях серпантина.
Грусть в очах. Улыбается рот.
Как в аду, неуютно и душно…
То в зеленых, то в красных лучах
Ходят пары печально и скучно,
И jazz-band раздается в ушах
Безысходно тоскливо и нудно…
Вот хозяин приносит шары,
Что теперь продаются так трудно,
Так как дети теперь уж стары.
Но для взрослых шары и свистульки
Это — лучшие, давние дни,
И под писк оглушительно гулкий,
Как ребята, смеются они.
Сквозь соломинку тянут ликеры.
Но напрасно!.. Спасения нет!..
А меж тем, сквозь густые портьеры
Льется солнечный радостный свет…[1]
Восемь часов стучать на машинке… Голодной бегать по улицам. Вместо обеда — кафе… Вместо семьи — ресторан… Вместо бренчания дома на фортепьяно — dancing… Это новый мир, устроенный господами социалистами!..
Ара притихла. Она подняла глаза на иконы. Точно оттуда ждала ответа.
— А иконы не продала? — тихо сказал Светик. Ара пожала плечами.
— Привычка… суеверие… Все равно: не спасли drift меня. Или уже очень я грешная… Или… нет и Бога…
— Страшные ты вещи говоришь, Ара.
— Новая жизнь, милый мой. Кисельные берега и молочные реки.
Она коротко засмеялась и резко кинула:
— Торжество социализма.
XXIX
Долгое наступило молчание. Как в могильном склепе было в тихой комнате, и широкая постель казалась не ложем страсти, но катафалком смерти. По дому пустили паровое отопление, и стало жарко. Пахло духами. Светику казалось, что сквозь запах духов пробивается порой нудный, противный запах тления. Ара погасила боковую лампочку, и только верхняя лампа с абажуром красным тюльпаном заливала комнату мягким, волнующим светом.
От чая с коньяком и вина кружилась голова. Грешные мысли лезли в голову. Надоедно повторялись строфы из апухтинского "Года в монастыре":
Она была твоя, шептал мне вечер мая,
Дразнила долго песня соловья…
Было жалко себя. Идут и идут годы, а все — случайное ложе и ласка на полчаса.
Иконы тонули во мраке. Едва намечались золотом риз. Свет падал на низкие широкие подушки, покрытые кружевами.
Ара сидела, задумавшись. Локтями она опиралась на стол. Широкие рукава спустились, и белые полные руки, покрытые нежным, тонким пухом, были видны до розовеющей косточки локтя.
— Ара! — сказал Светик.
Она точно проснулась. Вздрогнула… Подняла голову…
— Что, милый?
Светик подошел к ней, обнял и стал целовать ее шею, там, где приятно щекотал губы подбритый затылок.
Страстнее и дольше становились его поцелуи, крепче объятия. Ара не сопротивлялась. Она отдавалась его ласкам. Сильными, грубыми, мозолистыми руками он обхватил ее за талию и посадил на колени. Верхняя пуговка ее платья расстегнулась, и оно сползло с плеч, обнажая широкую грудь и кружево рубашки с розовой ленточкой. Светик прижался лицом к нежной коже груди. Ара закрыла глаза. Томный, долгий вздох зажег Светика. Он уже не помнил себя.
Он поднял ее и положил на постель. Но сейчас же гибким движением она поднялась и цепко схватила его за воротник.
— Нет… Нет!.. — сказала она. — Только не это… Милый… Дорогой… любимый… Нельзя.
Красные круги поплыли перед глазами Светика. Он боролся с Арой, стараясь повалить ее и освободиться от душившей руки.
— Оставь, — прохрипел он. — Ты меня душишь!
— Светик… пойми!.. Этого нельзя!
Он рванулся, воротничок соскочил с запонок, галстух развязался. Светик снова навалился на Ару.
— Светик. Заклинаю тебя! Оставь!
Ее глаза наполнились слезами.
— Ара!
— Светик!.. Светик… — высвобождаясь из его рук, воскликнула Ара. — Я не могу… Пойми… Пойми меня, дорогой, золотой, милый… Хочу… Не могу… Я больная… Я заражена…
Светик выпустил ее и выпрямился.
Прекрасная, лежала она перед ним. Раскрасневшаяся от стыда, от борьбы и страсти, с блестящими от слов громадными глазами она была, как никогда, желанной.