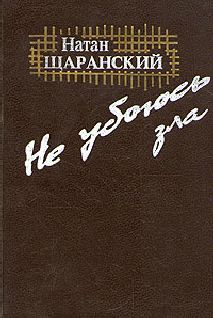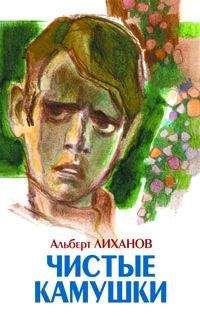Натан Щаранский - Не убоюсь зла
В карцере холодней, чем в коридоре. И тулупа нет. И чая, чтобы со-греться. Встаешь, делаешь энергичную зарядку -- отличные это были времена, когда хватало сил на зарядку в карцере! -- и, разгоряченный, снова ложишься. Ты понимаешь, что хорошо бы побыстрей заснуть -- до того, как снова замерзнешь, -- но нет, не получается. Подтягиваешь к животу ноги и растираешь мышцы, не вставая с нар. Как будто помо-гает, но только до тех пор, пока снова не вытянешься. Наконец решаешь не обращать внимания на холод, пытаешься расслабиться и думать о том, что произошло на следствии. Но тут вдруг еще не закаленные кар-цером мышцы начинают конвульсивно дергаться. Особенно странно ве-дут себя ноги: независимо от моей воли они занимаются гимнастикой сами по себе -- поднимаются и падают, поднимаются и падают... При этом тяжелые ботинки, которые я решил не снимать -- в них все же теп-лее, -- стучат по нарам.
-- В чем дело? Почему шумите? -- заглядывает в глазок надзира-тель.
У меня нет желания отвечать ему. Ноги продолжают "шуметь"... Прошли годы. Я научился десяткам маленьких хитростей: как пронести в карцер карандаш, как распределять еду между "голодным" днем и "сы-тым", как, натянув рубаху на голову, согревать себя собственным дыха-нием; научился "качать права" -- требовать в камеру прокурора, гра-дусник, теплое белье (которое положено по инструкции при температу-ре ниже восемнадцати градусов, что практически никогда не выполня-ется) , научился не думать о еде даже на сотые сутки карцера. И все же к одному я так никогда и не смог привыкнуть: к холоду.
...Подъем. Наконец-то! Надзиратель закрывает нары на замок, выво-дит меня в коридор -- умываться. Господи, как же здесь тепло! К чему им тут тулупы?! Я медлю у рукомойника, чтобы подольше не возвра-щаться в свою душегубку.
Вернувшись, делаю зарядку, жду завтрака. Но тут мне объясняют, что в карцере горячая пища -- через день, и то -- по пониженной норме Сегодня мне положены лишь хлеб и вода. Впрочем, голода я пока не чувствую. Главное -кружка кипятка, которым можно согреться. Са-жусь на пенек, делаю несколько глотков, а потом приставляю кружку к груди, к ногам, даже, немыслимо извернувшись, -- к спине. Это помога-ет, и меня начинает клонить в сон. Сонному же на пеньке не удержаться -- опоры-то ведь нет, -- и я сползаю с него. Но на цементном полу си-деть -- тоже удовольствие маленькое... И тут я вдруг слышу: "На вы-зов!" -- и с ужасом осознаю, что эти два слова сделали меня почти сча-стливым. Прочь из этой холодной темницы, прочь! О том, что ждет меня на допросе, я и не думаю -- это все неважно, лишь бы поскорее со-греться.
На допрос меня брали из карцера ежедневно, только в воскресенье делали перерыв. За все одиннадцать месяцев следствия меня никогда не допрашивали так интенсивно, как в этот период.
Я заходил в роскошный кабинет в своих карцерных лохмотьях, са-дился на стул, и тело мое еще долго сводила судорога -- так медленно выползал из меня холод. Солонченко участливо спрашивал о самочувст-вии, сетовал на жестокость Петренко.
-- Жаль, Володин болеет, -- сокрушался следователь, -- только он может этого самодура на место поставить. Ну ничего, сейчас чайку попьем, -- и Солонченко разливал в стаканы горячий ароматный чай, пододвигал ко мне блюдце с печеньем или вафлями и несколькими ку-сочками сахара. -- Только Петренко не проговоритесь, что мы тут ваш режим нарушали, меня за это по головке не погладят.
К концу нашей трапезы он начинал суетиться, поспешно убирая со стола пустые стаканы и блюдца со следами запрещенных для меня ла-комств. И когда эта комедия повторилась во второй или третий раз, я не выдержал:
-- Знаете, когда-то в детстве я видел немало примитивных фильмов о войне. Эсэсовцы там проводили обычно допросы так: один зверски из-бивает человека, а потом подходит другой, обязательно в белых перчат-ках, склоняется над избитым, говорит: "Ай-ай-ай, какие сволочи", -- вызывает врача, дает бедняге воды и начинает его допрашивать, всяче-ски демонстрируя свое дружелюбие. Но ведь это были очень слабые фильмы сталинских времен. Неужели в наши дни вы не могли найти ре-жиссера поизобретательней?
Солонченко решил было обидеться, но, подумав, сказал с неожидан-ным для него, поистине христианским, смирением:
-- Да, я вас понимаю. Вам сейчас трудно и хочется на ком-нибудь злость сорвать. Понимаю и не обижаюсь. Поверьте: моей вины в том, что вы оказались в карцере действительно нет. Мне гораздо приятней допрашивать вас, когда вы в форме, а не такой сонный и промерзший до костей.
Так что и следующий допрос начался с чая и вафель. Тогда я попро-бовал вывести его из равновесия другим способом:
-- Да что вы мне все вафли да печенье... А колбасы и сыра у вас в буфете нет, что ли?
Следователь рассмеялся, развел руками и сказал:
-- Ну, Анатолий Борисович, от скромности вы не умрете!
Ни колбасы, ни сыра я от него так и не дождался, зато в какой-то мо-мент Солонченко предложил мне:
-- Если хотите, садитесь на диван, там теплее.
Я пересел; пружины мягко подались под моим телом, голова закружилась, и я почувствовал, что полностью теряю контроль над собой. Очередные свидетельские показания, которые читал следователь, дохо-дили до меня как сквозь сон. Я встал, размялся и больше никогда не са-дился на этот проклятый диван.
В те дни Солонченко еще продолжал свои попытки убедить меня да-вать показания. Но увидев, что отступать я не намерен, он принял мои условия и согласился зачитать мне протокол допроса Тота о его встре-чах с парапсихологами Петуховым и Наумовым, философом Зиновье-вым, врачом Аксельродом, а также их собственные показания.
Как только он взял в руки протокол допроса Боба, я спросил его:
-- От какого числа?
-- Вас допрашивали о Тоте тринадцатого июня, а его -- четырнадца-того.
Теперь все стало ясно. Вот почему они так спешили тогда получить от меня нужные им показания, вот кому они собирались предъявить "от-редактированные" ими тексты допроса, которые я, к счастью, не подпи-сал!
-- В качестве кого допрашивается Тот? -- попытался я извлечь из следователя максимум информации, положенной мне по закону.
-- По вашему делу в качестве свидетеля, -- сказал Солонченко, ко-нечно же, легко догадавшись о том, что меня волнует. -- Ну а по другим делам -это пусть он сам разбирается со своим следователем, -- доба-вил он насмешливо.
В показаниях Боба нет ничего опасного для меня. Однако, это безус-ловно его показания, а значит, хоть в чем-то они не блефуют.
Вернувшись в карцер, я часами крутился вокруг пенька, натыкался на стены и переваривал новости; всю ночь я не спал и, трясясь от холо-да, думал о Бобе.
Мне вспоминалось, как он опубликовал статью о ходе перегово-ров об ограничении стратегических и наступательных вооружений (ОСВ-2), приведя в ней данные, которые еще не были известны другим журналистам. Те поздравляли его с чувством завистливого восхищения. На мой вопрос: "Как тебе удалось разузнать это?" -- он ответил, заговорщицки подмигнув: "Я никогда не сообщаю своих источников информации". Хотя сказано это было шутливо, фраза запомнилась: она была характерна для Боба, на которого всегда можно было положиться. Так почему же он вдруг заговорил -- и где? -- в КГБ! -- о своих беседах с советскими гражданами, назы-вая их имена? Ведь в разговорах этих не было ровным счетом ни-чего преступного, и он мог спокойно послать следователей подаль-ше, приведя тот же аргумент: я никогда не сообщаю своих источ-ников информации. Боб этого не сделал, а значит, -- неужели Со-лонченко прав? -- там, на воле, в большой зоне, что-то измени-лось, что-то произошло.
Я искал объяснение поведению Тота. Ясно, что КГБ еще до его допроса знал о тех самых четырех встречах -- ведь Черныш гово-рил со мной о них тринадцатого, а показания Боба -- от четыр-надцатого. Скорее всего, они дали ему понять, что я рассказал об
этих встречах, и Роберт поверил -- ведь у него не было нашего опыта общения с КГБ -- и решил доказать, что ничего криминаль-ного в них не было.
Я не собирался повторять ошибок Боба. Следователь зачитывал мне очередной кусок его показаний. Иногда, после моих настойчивых требо-ваний, показывал мне тот или иной лист.
-- Но тут нет его подписи!
-- Это ведь перевод на русский, а Тот подписывал английский ориги-нал.
-- Тогда покажите мне его, -- и я убеждался в том, что подпись по-длинная. Но то, что они не хотели показывать мне весь текст, обнаде-живало: значит, не все шло по их плану и на его допросах.
Я постоянно требовал, чтобы следователь каждый раз записывал в протокол, что он зачитывал мне показания Тота и какие именно, -- это был еще один способ убедиться в том, что Солонченко не блефует. Ведь по закону ему запрещено давать допрашиваемому ложную информа-цию. Лгут они, конечно, постоянно, но фиксировать свое вранье в про-токолах, как правило, избегают.
Выслушав показания Тота и его собеседника, я обычно подтверждал то, что касалось лично меня: