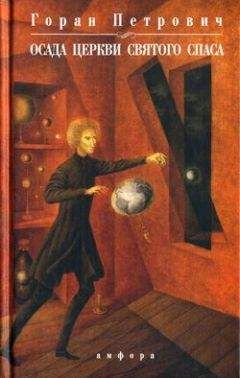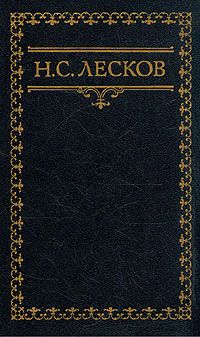Сергей Тютюнник - Кармен и Бенкендорф
- Если убрали Марьина, то меня и подавно. Я ведь, голубчик, - обломок империи. Многим мешал в свое время. Фактически - главный цензор страны, душитель свободы. Эдакий граф Бенкендорф с партбилетом.
- Ну, они все были с партбилетами. Это не порок, - неловко пытаюсь утешить старика.
- Это как повернуть...
Мы замолкаем. Возле гостиницы, как всегда, - куча вооруженного народа:
омоновцы, военные, милиция... Стадо машин урчит моторами, выплескивая в зимний день горячий едкий дым.
Дед окончательно расслабляется уже в номере. Я раздеваю его, как ребенка.
Меня потешают его старомодные длинные трусы и носки на подтяжках, резинки - под коленками. Я укладываю деда в постель, не снимая носков, и вставляю в рот зажженную сигаретку "Новость". Очки кладу на тумбочку.
- Хороший ты мальчик, Андрей, - бубнит Соломин. - Мне бы сына такого. Да вот не дал Бог детей. Жену сменил, а детьми своими не обзавелся.
Я молча слушаю и жду полминуты: старик обычно засыпает с горящим окурком.
Дед отключается, и я тушу бычок. Все. "Спи, империя! Твое бодрствование все равно не остановит гуннов..."
III
Во мне бродит пьяная кровь, и я пою на ходу. В такт песни скрипит под ногами снег. В темных переулках, словно сытые коты, урчат бронетранспортеры. Уже комендантский час. На улице безлюдно. В воздухе плавают редкие снежинки, подкрашенные фиолетом ночи и желтизной фонарей.
На моей груди греется документ, дающий право ходить где угодно и когда угодно.
Я не боюсь патрулей и не смотрю по сторонам. Я слежу за своей тенью, привязанной к беспутным ногам. Тень летит по снегу, уклоняясь от света. Она сворачивает с центральной улицы в переулок и, вытянувшись на склоне, скользит вниз, к реке.
Черный женский сапожок наступает ей на "голову", увенчанную овалом от фуражки.
Навстречу мне медленно поднимается девушка в ярко-красной дутой куртке со скрещенными на груди руками. Но в эту минуту я равнодушен к людям и продолжаю петь. Глеб пришел в пресс-службу и напоил меня коньяком. Уговаривал соблазнить деда на участие в фильме "Салам!". Я не поддался, несмотря на магарыч, и теперь радуюсь.
- Все поёшь, майор? - устало роняет девушка, не поворачивая головы.
Я слышу это уже затылком, теряю равнодушие к человечеству и разворачиваюсь.
- Почему бы нам не спеть дуэтом? - наполняюсь гусарской лихостью и притираюсь к пуховой куртке.
- Извини. Я жалею, что заговорила. - В ее голосе - неподдельное равнодушие.
Голова девушки непокрыта, и черные длинные волосы ленивыми волнами стекают на плечи, вылавливая из ночной бездны снежный пух. Душа моя поет, а кавалерийская атака несет в водоворот дешевой игры:
- Не жалей о содеянном. Я принесу тебе радость.
- Это невозможно. У меня замерзло сердце, - отвечает холодно, все еще не оборачиваясь.
Ладони девушки, спрятанные под мышки, видимо, без перчаток. И я говорю:
- Как это романтично - замерзшее сердце... Но, по-моему, у тебя замерзло не сердце, а руки, - я продолжаю рваться в атаку, не думая о поражении.
- И руки тоже. Я забыла перчатки.
- Где забыла? - срывается с моего пьяного языка.
- Где надо, там и забыла, - раздражается она, и в атмосфере становится холоднее.
Мы медленно поднимаемся по переулку, боясь поскользнуться, и черные сапожки моей длинноногой собеседницы осторожно давят свежий снег. Мне очень хочется, чтобы девушка посмотрела на меня, но она по-прежнему не оборачивается.
Это ее я видел сегодня на брифинге. Сомнений нет. Она была в желтом свитере и заметно волновалась. Хоть я и пьян, но помню. Я не верю в замерзшее сердце.
- Твое сердце полно огня, - произношу с дешевой игривостью. - Оно способно растопить льды Эльбруса.
На ночном переходе с парада - в окоп.
На усталое сердце навалится тьма.
И глаза мне закроет седеющий поп,
И посыплется снег, и настанет зима.
И упрямую землю уставши долбить,
Плюнет в руки могильщик и мать помянет.
И я больше не буду ни петь, ни любить,
Лишь весной надо мною трава прорастёт...
Девушка читает стихи почти монотонно, глядя прямо перед собой, и видит то, чего не вижу я.
- Ты поэтесса? - я тронут, но мой пыл начинает остывать.
- Я не поэтесса, - она останавливается. - Я блядь, - и разворачивается ко мне - всем телом, и ее черные холодные глаза выбивают меня из седла...
- Что, растерялся, майор? - она победно улыбается, не размыкая вишневых накрашенных губ.
Я шумно вздыхаю и лезу в карман за сигаретой.
- Офицер, угостите даму папироской! - по-актерски манерно произносит она шаблонную фразу, и тонкие ноздри ее вздрагивают. - В другой раз не пускайтесь в галоп так опрометчиво.
- Другого раза может не быть никогда, - чиркаю зажигалкой, и отблеск огня мерцает в ее темных зрачках. - Я видел тебя на брифинге. Ты журналистка?
- Нет. Я там случайно оказалась. Журналистика - не моя профессия. Хотя такая же древняя.
- Проститутка? - спрашиваю как можно спокойнее, но в груди моей что-то больно сжимается.
- Да. - И она оценивающе оглядывает меня от фуражки до мокрых туфель. Я работаю там, где ты, наверное, сейчас живешь, - в "Интуристе".
- У тебя такая работа!.. И ты пишешь такие стихи?!
- Это не мои стихи - Аркадия Сурова. Ты его не знаешь. А я пишу прозу.
- Как это? - Туман накрывает мою военную голову.
- А так. Старым дедовским способом: ручку беру, лист бумаги и вывожу длинные строки из слов и знаков препинания...
Вот это засада!
- И что ты уже написала?
- Да немного пока. Две повести. Они опубликованы в "Юности".
- О чем повести?
- О смерти... Ты офицер, ты должен ощущать запах смерти здесь, на Кавказе. Он разлит в воздухе, как вино в старом погребе.
В глазах ее нет безумия, говорит холодно и спокойно. Но я не чувствую того, что чувствует она. Мой славянский круглый нос улавливает лишь слабое дуновение ее духов и сигаретный дым.
- Это потому, что война, - говорю осторожно.
- Может быть, - она смотрит на меня в упор. И от этого мое лицо начинает гореть. - Ты что-нибудь знаешь о войне?
- Эта для меня четвертая, - я наливаюсь уверенностью, - начинал в Афгане.
Здесь, на Кавказе, шестой год уже. Все "горячие точки" прошел, исключая Карабах.
Почти полный набор...
- Для "афганца" ты слишком молодо выглядишь, - в ее голосе сквозит недоверие.
- Я прожил короткую, но яркую жизнь, - неожиданно вываливается из меня газетный штамп. - Плюс заспиртованность организма.
- Убивал когда-нибудь? - и смотрит на меня, не мигая.
- Нет, мое оружие - слово, - выдаю еще один трафарет. - Я военный журналист.
- О-о-о, - впервые удивляется она. - Поэтому ты бываешь на брифингах. А я думала, ты охранник... И о чем пишешь, если не секрет?
- Почти о том же, о чем и ты. О любви и смерти. Вернее, о любви к Родине и о презрении к смерти, - и пытаюсь улыбнуться.
- Смерть нельзя презирать, - это сказано спокойно, без напуска. - Она заслуживает уважения и недостойна ни смеха, ни презрения... Ты был здесь в первые дни боев?
- Был. Я работаю в пресс-службе территориального управления федералов. И в курсе дел... Но что-то не хочется говорить об этом. Давай лучше о любви.
- Любовь придумали русские, чтобы денег не платить, - и она впервые обнажает в улыбке зубы. Красивые зубы страстного рта.
- Сколько ты стоишь? - спрашиваю, скрывая волнение, и глаза мои скользят по стройным ногам, обтянутым джинсами.
- Я не продаюсь, - она произносит это манерно низким голосом и встряхивает зайорошенными снегом волосами. В ее глазах - лед. Выдержав паузу и дождавшись моего смятения, добавляет. - Но какая-то небольшая часть меня может сдаваться в аренду. По цене двадцать долларов в час. Можно в рублях, по курсу.
- Это не много, - я облегченно вздыхаю. - Но и не мало, - и глубоко затягиваюсь дымом.
- У тебя есть деньги? - Она склоняет голову к плечу и пытливо щурится.
- Почти.
- Как это? Деньги или есть, или их нет. Третьего не дано, - коротко хохотнув, она снова белозубо улыбается.
- Дано, - почему-то упрямлюсь я. - Я живу в "Интуристе". Рядом со мной номер шефа - Соломина. У него и одолжу. Кстати, большая часть суммы у меня есть.
- Твой шеф - Соломин? Который когда-то работал в Главлите Советского Союза?
- Да. А что? Ты его разве не узнала? Ведь он брифинги проводит каждый день! - не могу скрыть удивления.
- Нет... Так, слышала кое-что о нем, - и щелчком выстреливает окурок в сугроб.
- А, понятно, - вздыхаю. - Раз ты печаталась в "Юности" со "смертельными"
повестями, то его, наверное, не миновала.
- В общем-то да. Зацепила крылом этот гранитный утес, - она зябко прячет "босые" ладони под мышки.
- Тогда пойдем? - предлагаю я робко.
- Сливаться в экстазе? - говорит она с кривой улыбкой.
- Соприкасаться сердцами, - парирую я.
- Было бы любопытно... Если возможно.
Мы направляемся к реке - черной бурлящей ленте, чьи истоки теряются гдето в ущельях Кавказского хребта. Тусклый фонарь на берегу освещает узкий пешеходный мост, обросший снегом.