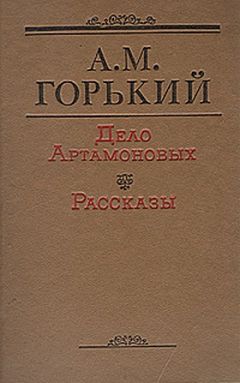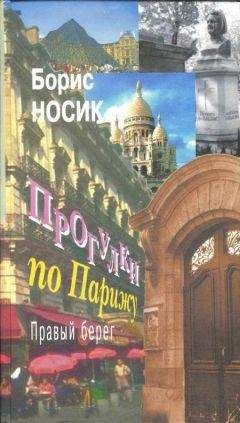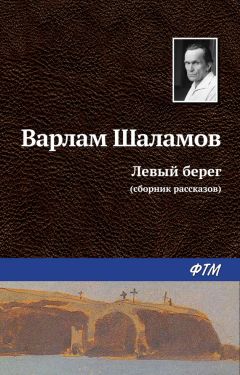Максим Горький - Рассказы о героях
- Долго ли, коротко ли - дошли в село, большое село и пострадавшее: горело в двух местах, некоторые избы артиллерией побиты. У церковной ограды, под деревами коновязь, семнадцать лошадей - все дрянцо. Поодаль, на дереве два уже висят.
"Ну, думаю, ежели не убегу, - тут и останусь". Темновато, огней в окнах почти нет, время - за полночь, спит белое воинство. Человек пяток на паперти прячутся от дождя. Привели меня к школе, а напротив ее - хороший дом, два этажа, только крыша разбита. Там - шумят и огонь есть. Один конвойный пошел туда, другой сел на крылечко школы, я, конешно, стою на дождике, тут - не побежишь.
- Вышел другой конвойный, говорит: "До утра велено оставить". Это меня, значит. Потолковали они, куда меня запереть, повели недалеко от школы, затолкали в избу, в ней уж совсем ни зги не видно, окна заколочены. Солдат спичку зажег - вижу я: пол разворочен, угол разбит, верхние венцы завалились внутрь, в углу - тряпье, похоже, что убитый лежит. Дождичек проникает в избу. Солдат оглядел все, вышел в сени, дверь не закрыл. "Это - плохо, что не закрыл, а вылезти отсюда - пустяки", - думаю. Сижу. Тихо, только лошади сопят, пофыркивают, дождик шуршит, людей не слышно. Солдат в сенях повозился и тоже засопел, потом, слышу, - храпит.
- Счета времени я, конешно, не вел, часов помнить не могу, сижу, не смыкая глаз, и как страшный сон вижу. Душа скучает, и - : совестно: вот как влопался! Зажег осторожненько спичку, поглядел - бревна так висят, что снаружи влезть в избу, пожалуй, можно, а вот из избы-то едва ли вылезешь. Встал, попробовал - качаются.
- И тут меня точно кипятком ошпарило, слышу шепот:
"Заусайлов!" Это - Сашок, это - он! "Вылезай", - шепчет. Отвечаю: "Никак нельзя, в сенях - солдат". Замолчал он, потом, слышу, царапает, бревна поскрипывают. И только что, на счастье свое, отодвинулся к печке, заскрежетало, завалились бревна в избу. Ну, теперь - оба пропали.
- Солдат, конешно, проснулся, кричит: "Что ты там?" Отвечаю: "Не моя вина, угол обвалился!" Ну, ему, конешно, наплевать, был бы арестованный жив до казенного срока. Пожалел, что не задавило меня. Стало опять тихо, и слышу близко от меня - дыханье, пощупал рукой - голова. "Сашок, шепчу, как это ты, зачем?" Он объясняет: "Мы, говорит, все слышали, Климова я назад послал, а сам следом за тобой пошел. Главная, говорит, сила их не здесь, а верстах в четырех", - он уже все досконально разузнал. "Они, говорит, думают, что у них в тылу и справа - наши". Рассказывает он, а сам зубами поскрипывает и будто задыхается. "Мне, говорит, бок оцарапало, сильно кровь идет, и ногу придавило". Пощупал я - действительно нога завалена. Стал шевелить бревно, а он шепчет: "Не тронь, закричу - пропадешь! Уходи, говорит, все ли помнишь, что я сказал? Уходи скорей!" - "Нет, думаю, как я его оставлю?" И опять шевелю бревно-то, а он мне шипит: "Брось, черт, дурак!
Закричу!" Что делать?! Я еще разок попробовал, может, освобожу ногу-то... Ну, хочешь - веришь, товарищ, хочешь - не веришь, - слышал я, хрустнула косточка, прямо, знаешь... хрустнула! Да... Раздавил я ее, значит... А он простонал тихонько и замер. Обмер. "Ну, думаю, теперь прости, прощай, Сашок!"
Заусайлов наклонил голову, щупал пальцами папиросы в коробке, должно быть, искал, которая потуже набита. Не поднимая головы, он продолжал потише и не очень охотно:
- За ночь к нам товарищи подошли, а вечером мы приперли белых к оврагу, там и был конец делу. Мы с Климовым и еще десяточек наших первыми попали в это несчастное село. Ну, опять, пожар там. А Сашок - висит на том самом дереве, где до него другой висел, тоже молодой, его сняли, бросили в лужу, в грязь. А Сашок - голый, только одна штанина подштанников на нем. Избит весь, лица - нет. Бок распорот. Руки - по швам, голова - вниз и набок. Вроде как виноватый. А виноватый - я...
- Это - не выходит, - пробормотал красноармеец. - Оба вы, товарищ, исполнили долг как надо.
Заусайлов раскурил папиросу и, прикрыв ладонью спичку, не гасил ее огонек до той секунды, когда он приблизился к пальцам. Дунув на него, он раздавил пальцами красный уголь и сказал:
- Вот герой-то был.
- Да-а, - тихо отозвалась учительница и спросила:
- Уснул?
- Спит, - ответил красноармеец, заглянув в лицо мальчугана, и, помолчав, веско заговорил:
- У нас герои не перевелись. Вот, скажем, погрохрана в Средней Азии парни ведут себя "на ять"! Был такой случай:
двое бойцов отправились с поста в степь, а ночь была темная.
Разошлись они в разные стороны, и один наткнулся на басмачей, схватили они его, и оборониться не успел. Тогда он кричит товарищу: "Стреляй на мой голос!" Тот мигом использовал пачку, одного басмача подранил, другие разбежались, даже и винтовку отнятую бросили. А в это время - другого басмачи взяли; он кричит: "Делай, как я!" Он еще и винтовку зарядить не успел, прикладом отбивается. Тогда - первый начал садить в голос пулю за пулей и тоже положил одного. Воротились на пост - рассказывают, а им - не верят. Утром проверили по крови - факт! А ведь на голос стрелять значило по товарищу стрелять. Понятно?
- Как же не понятно! - сказал Заусайлов. - Ничего, помаленьку понимаем свою задачу. Из отпуска, товарищ?
- Из командировки.
Учительница встала.
- Спасибо вам. Надо разбудить Саньку.
- Зачем? Я его так снесу, - сказал красноармеец.
Они ушли. Заусайлов тоже поднялся, подошел к борту, швырнул в реку папиросу.
Серебряный шар луны вкатился высоко в небо, тени правого берега стали короче, и весь он как будто еще быстрее уплывал в мутную даль...
II
Это рассказал мне один из тех людей, которые лет тридцать говорили русской действительности решительное "нет!", а после Октября осторожно начали говорить "да!", сопровождая каждое "да" более или менее скептическим "но".
Теплым летним вечером я сидел с этим человеком среди ельника, на песчаном обрыве; под обрывом - небольшой луг, ядовито зеленый после дождя, на зелень луга брошена и медленно течет мутновато-красная вода маленькой реки, за рекою - темные деревья, с правой стороны от нас, над сугробами облаков - багровое, вечернее солнце стелет косые лучи на реку, на луг, на золотой песок обрыва.
Человек курил, глядя на реку, и рассказывал, не торопясь, вдумчиво:
- Окончательно избавила меня от моих самоколебании встреча с одной женщиной. Было это года два тому назад, в одном из уездных городов верховья Камы. Я сидел в укоме, беседуя "по душам" с предом, секретарем и убеждаясь грустно, что хотя оба они - парни не плохие, но по уши завязли в хитросплетениях старого быта, и не они руководят жизнью, а их водят за нос местные темные силы. Они и сами немножко чувствовали это. Секретарь, молодой и даже как будто даровитый стихописате ль, утверждал уже, что:
Нередко мощные деревья Родятся от гнилых корней.
- Это - не его стихи, не помню - чьи, но у него были стишки именно такого смысла. А предукома - местный уроженец, сын заводского служащего, участник партизанского движения, человек битый, мученый; женат, трое детей, сильно устал, теоретически вооружен слабо, значение поступков своих понимает не ясно и, видимо, уже решил:
Будь, что будет, все равно!
Все наскучило давно.
- Городишко глухой, темный, об одном таком сказано:
В городе у нас - как на погосте:
Для всего готовая могила.
- Воскресенье, время - за полдень, на улице жарко, точно в бане, и сонная тишина; за крышами домов - гора, покрытая шубой леса, оттуда в открытые окна течет запах смолы и горький дымок, должно быть - уголь жгут.
Собеседник мой старался говорить живо и ради этого сильно злоупотреблял стиховыми цитатами. Цитаты свидетельствуют о начитанности, но, далеко не всегда утверждая докарываемое, часто создают такое впечатление, как будто цитирующий платит за внимание к нему крадеными пятаками.
- Беседуем, все более смущая друг друга и уже начиная немножко сердиться, - вдруг, с улицы, в открытое окно, поднимается от горячей земли большое, распаренное докрасна бабье лицо, на нем неласково и насмешливо блестят голубоватосерые, залитые потом глаза, и тяжелый, густой голос неодобрительно гудит: "Здорово живете! Чай да сахар..."
- "Опять черт принес", - проворчал пред, почесывая под мышкой, а женщина наполняла комнату гулом упреков: "Ну, что, товарищ Семенов, обманул ты меня? Думал: потолкую с ней по-умному, она и будет сыта? А я вот опять шестьдесят верст оттопала, на-ко! Принимай гостью..."
- Лицо ее исчезло из окна. Я спросил: кто это? Пред махнул рукою, сказав: "Шалая-баба!" А секретарь несколько смущенно объяснил: "Батрачка. Числится кандидаткой в партию".
- "Шалая баба" протиснулась в дверь с некоторым трудом.
Была она, скромно говоря, несколько громоздка для женщины, весом пудов на семь, если не больше, широкоплеча, широкобедра, ростом - вершков десяти сверху двух аршин. Поставив в угол толстую палку, она, движением могучего плеча, сбросила со спины котомку, бережно положила ее в угол, выпрямилась и, шумно вздохнув, подошла к нам, стирая пот с лица рукавом кофты.