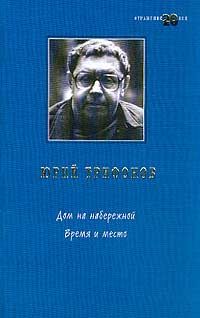Анатолий Бузулукский - Исчезновение (Портреты для романа)
- Да, нос у него завидный, бордовый. По телевизору не так заметно, гримируют.
- И глаза тоже не белые. Жизнь, наверно, тяжелая.
- Что там на него за дело шьют? Не слышали?
- Шахер-махер. Бюджет пилят. Там ни одного уже без дела не осталось.
- Деловые все стали. Заведут, хвост прижмут и закроют дело.
- Бросьте вы о них. Давайте помянем тетю Женю. Тетя Женя была хорошая.
Новочадов вполголоса пытался объяснить воспаленной, прослезившейся Марии, что от Куракина не следует ждать прилива родственных чувств, что Куракин действительно крупная и популярная в городе персона, что у больших людей душа меняется машинально. Если бы он был шишкой где-нибудь в Урюпинске - это одно дело. Здесь, в Петербурге, и особенно в Москве всякие там родственные узы - вещь ненужная и обременительная. И потом, всякий выход публичного политика на люди должен быть обставлен и оправдан с точки зрения пиара, занимать определенное количество времени согласно протоколу. Честь и хвала Куракину, что он вообще нашел минутку, чтобы появиться здесь и попрощаться с полузабытой теткой, хотя бы немного насупился, вопреки своему знаменитому игривому нраву.
- Ты чего руки не помыл после кладбища? Иди немедленно в ванную, шепнула Мария Новочадову, увидев его заляпанные пальцы. На среднем правой руки левее и ниже ногтя образовался желтоватый, мозолистый, писательский нарост.
Мария думала о поколении разобщенных людей, об их отвращении к совместному честному существованию, об их непреодолимом, похабном эгоизме, о гуле сгущающейся пустоты вокруг себя, о своем заскорузлом сиротстве. Она понимала, что Новочадов живет сам по себе, а она сама по себе. Она подумала о собственной смерти и совсем не ужаснулась. Она представила свою смерть в знакомой обстановке, представила, как медленно обессиливает и как медленно затмевается вокруг нее свет.
Куракин, перед тем как уехать с похорон и со всеми расцеловаться, перебросился парой фраз с Гайдебуровым.
- Ленька, что там у тебя за конфликт с Болотиным? - спросил Куракин.
Эти слова вывели Гайдебурова из горестного, благодушного равновесия. Он почувствовал влажный жар и скачок давления.
- С каким Болотиным, Петр Петрович?
- Перестань. Со старшим, с Михаил Аркадьичем. Ты, пожалуйста, там разберись. Он уже мне жалуется, как родственнику. Хорошо - мне, а не на меня.
- История эта выеденного яйца не стоит, Петр Петрович.
- Какие ты ему там деньги должен? Отдай, Ленька. Он старик вредный.
- Да это все мелочи, Петр Петрович. Старый стукач. Ты на этот счет не беспокойся. Я с этим старым жидом сам разберусь.
- Отдай, Ленька. - Куракин держал лицо спокойным и усталым, но глазам позволял радостно прыгать, как на пружинистом тюфяке. - Ну ладно, брат, пока, звони, если какие проблемы возникнут.
- Да вот уже возникли, Петр Петрович.
- Перестань, Ленька. Это - не проблемы, это пока мелкое недоразумение. Не запускай болезнь.
Куракин был весь в черном, не то чтобы по случаю траура, - он вообще предпочитал однотонные одежды: в прохладную погоду - черные, темно-серые, темно-синие, летом - светлые, льняные и благородного тонковолокнистого хлопка. На нем было черное, кашемировое, до колен пальто, вальяжно распахнутое, с переливчатой подкладкой; эбонитовым светом отливал дорогой, едва примятый в нужных местах костюм (пиджак драпировал торс, как всякий хороший пиджак, который повторяет не тело, а телодвижения); галстук набивного, иссиня-черного шелка, завязанный большим, нарочито небрежным узлом, был зажат мягким воротником сорочки ежевичного цвета, с мелкими белыми пуговками. Садясь в приземистый, лаковый, с тонированными стеклами лимузин, Куракин долго задирал ноги, обутые в узконосые сияющие туфли. Гайдебуров не отрываясь смотрел на крохотные алые узоры вверху длинных, отлично натянутых куракинских носков.
Одни остались Гайдебуров и Колька Ермолаев в опустевшей и опустошенной квартире, пахнущей сгоревшим воском, уличным ветром, накрахмаленными ветхими полотенцами, пролитым компотом, смесью посторонних, скоропалительных духов. Полы были натоптаны, мебель сдвинута, трюмо, телевизор, зеркало в коридоре были покрыты простынями, захватанными уже чьими-то масляными лапами.
Двоюродные братья выпивали на кухне в полумраке, в средоточии приторной, испускаемой вместе с дымом, спиртуозной сентиментальности. Гайдебурову доставляло удовольствие быть человеком сострадательным. Он любил слушать человеческие истории, вынимая из них, как моллюска из раковины, скользкое, сочащееся мучение. Он любил чужое мучение соединять со своим, настоящим или выдуманным. Ему приятно было находить общее в судьбах и помогать собеседнику видеть одинаковое и кровное в душах.
- Моя первая, Ленка, была дура и хитрюга, - говорил Колька Ермолаев. Слышь, видел, приперлась? Ко мне даже не подошла с соболезнованиями. Ни "здрасьте", ни "спокойной ночи".
- Да, мегеристая баба, - согласился Гайдебуров. - Я подозреваю, Колька, что моя мне тоже изменяет напропалую. Буду что-то решать.
- Слышь, - Ермолаеву понравилось, что Гайдебурову жена изменяет не как-нибудь, а именно напропалую, поэтому он весело раскрыл глаза и смотрел на Гайдебурова с высокомерной понятливостью. - Купил живого лосося, она, моя первая, взяла его в морозильник бросила. Слышь, я его, конечно, оттуда вытащил, разрубил на три части, посыпал солью крупной, придавил камнем. На бутерброды на полгода хватило. А так?
Колька показывал ребром ладони, как беспощадно на три части разрубил он рыбу. Время от времени он стучал по столу внешней стороной кисти, наверное, чтобы взбадривать внимание Гайдебурова.
- Слышь, осталось в бокале на Новый год шампанское, она его в раковину вылила. При чем здесь...
- Тебе жениться надо, Колька. Хорошую бабу найти и официально жениться. Одному тебе смысла нет.
Ермолаев вдруг насупился, вдохнул воздуха полную грудь, как перед погружением в глубокую воду, и, зажмурив глаза, сипло выпустил вонючий воздух обратно, плечи уронил настолько низко, насколько позволяли суставы и связки, и пальцами суровых рук задел за линолеум.
- Я говорил матери, матери... Иветта даже не пришла на похороны. При чем здесь... Зарплату этот буржуй не поднимает. Уже везде водителям подняли. Инфляция ведь. А мне ей колечко не купить. Убить, убить мало. Я ему руку сломаю... Леонид, не дашь мне взаймы? - неожиданно трезво спросил Ермолаев.
- Согласен, проститутки - это все не то, это все механика. А нужна кибернетика. Нужна теплота отношений, привязанность, понимание, присмотр друг за другом, влечение тела и души сразу, в один момент, - говорил, словно не слыша Ермолаева, Гайдебуров.
Колька вдруг поднялся, включил свет и стал выглядеть взбудораженным и целеустремленным. Он подсел поближе к Гайдебурову, который от этой напористой близости слегка напружинился, но старался казаться размякшим. Ермолаев в своей манере стал похлопывать с неимоверной частотой по колену Гайдебурова.
- Слышь, - произносил он мокрым ртом, мокрой же была его бороденка, в глазах мутно блестели слезы, - я хочу приобрести "камаза" или хотя бы в аренду взять и самостоятельно работать по перевозкам. Надоело на этого буржуя горбатиться. Зимних ботинок нет, не на что купить. Нужен начальный капитал... Дай в долг, Леня. Мы же не чужие люди. С процентами, при чем здесь...
Гайдебуров видел, что настойчивость Ермолаева становилась невыносимой и опасной. Гайдебуров параллельно думал о своем ярме. Слова Куракина до сих пор торпедировали мнительный мозг. Гайдебуров случайно наклонился вперед и ударился как-то смешно своим лбом о Колькин лоб. От столкновения оба лба покраснели и начали побаливать. Вдруг Гайдебурову пришла мысль, связанная с Болотиным, и тут же оформилась в идейку самую заурядную и злободневную. По тому, как подозрительно стал смотреть с близкого расстояния в глаза Гайдебурова Ермолаев, Гайдебурову показалось, что нечто подобное зародилось и в голове Ермолаева, внутри его сильно шелушащегося лба.
В первую очередь Гайдебуров выяснил, кто такой был "буржуй", которого Ермолаев готов был убить или которому, по крайней мере, собирался сломать руку. Оказалось, что "буржуй" был тем самым директором, которого возил несчастный Колька Ермолаев. Оказалось, что "буржуй" грозился уволить Ермолаева, потому что тот не удовлетворяет его как водитель: ездит как черепаха, пропускает и наших и ваших, то и дело ломается и разводит руками, припарковывается в лужу, машину забывает помыть (а директор пачкается) и иногда, раз в месяц, опаздывает, но именно тогда, когда директору невтерпж куда-то надо мчаться. Гайдебуров также выяснил, что существует еще некий замдиректора и тоже совладелец фирмы, который, как ни трудно было догадаться, спит и видит, как бы сместить сумасбродного компаньона, и лучше безвозвратно и лучше тихонько, при помощи типичного несчастного случая. Гайдебурову стало ясно, что этот лукавый замдиректора вкрадчивыми наущениями подталкивает бедолагу Ермолаева к кровавой развязке: вот он, директор, тебя унижает, вот он тебя за человека не держит, вот он тебя скоро по миру пустит, подставит как-нибудь с машиной, а ты будешь платить, может быть, квартиру отнимет, есть, мол, у меня такая информация; другое дело, если бы я был директором, тогда бы ты у меня, как у Христа за пазухой, нежился, уж зарплату бы я тебе раза в два сразу поднял, да что там в два - в три, а директор, он - тиран, трутень, он достал уже всех, вот и думай, Коля, про умную аварию, про разбойное нападение в парадной, монтировка-то всегда под рукой должна быть, под ковриком в машине, про необходимую оборону, в конце концов: директор всегда с пистолетом ездит, ему ничего не стоит дуло и на тебя навести по пьяной лавочке.