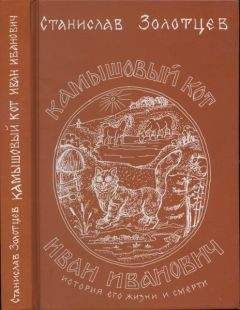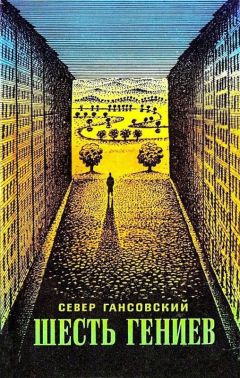Михаил Тарковский - Отдай мое
Все началось с попавшего в сеть налима. Налима на Енисее зовут кормилец. Исконная зимняя енисейская еда - налим с картошкой. Налим похож на огромного головастика - толстое брюхо, плоский хвост. Вспорешь мягкое толстое брюхо - розоватый пальчатый желудок, оливковая макса - печенка, на ней мешочек с зелеными чернилами - желчью. Все блестящее, заподлицо уложенное. Главное - желчь не раздавить. Налим хоть и кормилец, но относятся к нему, как к чему-то несуразно-смешному или даже не совсем приличному. "Опять сопливый попался". Смотрят самолов, надеясь на "красну рыбу", а тут кормилец идет, язви его, как говорит баба Лида. Налим смешно извивается, топырится, дурацкий усик на бороде, как у Хоттабыча. Лучше всего он в ухе, уху заправляют растертой с луком максой.
Так думал Митя, будто все это кому-то рассказывая, а сам выпутывал налима, стянувшего мордой всю ячею, и, когда выпутал, покрытые слизью пальцы были как чужие и дали знать, отходя в рукавицах по пути назад.
Вечером Митя, отложив книгу, посмотрел в потолок, а потом открыл тетрадь и взялся описывать извилистые налимьи пятна, белесые полосы от сети на голове - как на грибе, проросшем сквозь траву. И постепенно от налима перешел на бабу Лиду, как на Новый год запекает она налимьи "икры" в русской печке и как они берутся корочкой, а внутри суховато-рассыпчатые, какая вообще бабка вся "енисейная, сиберская" ("Ой, сто-ты, парень, замерзанье!"). Как сказала про озерных гольянов, что их раньше ели, "зарили, они зырные такие, рыбные", имея в виду, что вроде мелкая и сорная рыбешка, а на вкус как настоящая. И про трехдневный север: "Три дня балдабесил - теперь отдыхат".
Когда север, вздувая медленный вал, размашисто месил Енисей, вспоминались бабушкины рассказы о знаменитых штормах на Енисее. Что-то она слышала от знакомых, что-то вычитала, что-то додумала, и выходило, что причина штормов - в очень крутых берегах, гуляя меж которых волна будто бы расходится до небывалой силы, едва не обращаясь в вечный двигатель.
А может быть, бабушка лишь намекала, а он довоображал. Странно было в детстве, как-то все косилось, плавилось, будто глядел в очки, а стекла не отвердели и шалили: то волной пойдут, то вылупятся пузырями. Не мог понять, почему отец называет бабушку мамой. Оба казались навек сложившимися, притертыми к жизни, складки на щеках такие бывалые, бабушка - как сухое дерево, как можжевельник. Когда увидел бабушку на фотографии, аж неприятно стало: лицо гладкое, сырое, словно раздутое водянкой. И этот сверток - его отец! Он и сейчас-то этого не понимает, не то что в детстве. И не только этого. Например: как так? Его отец, Евгений Михайлович Глазов, известный писатель, которого родила бабушка. Получается матрешка какая-то: книги в папе, папа в бабушке. И если это с самого начала так задумано, то почему они не могли сразу-то в бабушке родиться. И ей веселей бы было, и ему, и маме. Все наше было бы. Все рядом. И отец бы тут же крутился как привязанный, ни к какой бы Алле Викторовне не ушел.
До того, как отец ушел, гости к нему приходили часто. Потом он их увел, даже мамины друзья ему перешли, и остался один несуразный дядя Игорь, отцовский, кстати, друг. Гости шумели. Митя спрашивал, что нарисовать. Отец говорил:
- Ежика.
Митя рисовал сапожную щетку с подписью: "Ежык самец", и отец целовал его:
- Ах ты ежик!
Из кровати Митя слышал волнообразно затухающий и вспыхивающий разговор, а потом заходил отец с расстегнутым воротом, жарко пахнущий переработанной водкой, и, закатывая рукав, обнажал руку до плеча:
- Мышцы видишь? Все. Мышцы спать пошли. Спи. Спокойной ночи.
И Митя оставался лежать в недоумении: согласен, мышцы - да! и действительно интересно, как они округляются, набегают ненормальным бугром, но почему они идут спать, когда их хозяин явно собирается еще бодрствовать, непонятно.
Летом они жили с бабушкой в деревне неподалеку от Сергиева Посада, и на выходные приезжали, прихватив знакомых, родители. Шли купаться, и мама и папа, еще жившие вместе, казались самыми стройными, красивыми, и синюшный дядя Игорь - только что за столом самый изощренный разговорщик, теперь в модных, с пряжечками, плавках напоминал водяного, особенно голыми и неожиданно маленькими выглядели его глаза без очков. Митя записал про бабушку и про дядю Игоря.
"Зима разливается жидким азотом", - порой перегибал Митя, а наутро такой "азот" не гляделся, казался инородным и таким едким, что першило в горле. "Так, глядишь, и бронхи перехватит", - шутил Митя. Шутка имела почву - у него была аллергической природы астма: понюхав какой-нибудь особой краски или подышав пылью, он задыхался. Приступ длился часами, и особенно мучительно было переносить его ночью: лежа становилось хуже и приходилось сидеть на кровати, обхватив колени, и ждать, пока пройдет спазм или отек, что точно - он не знал. Митя показывался врачам, его долго обследовали, гоняли и прописали таблетки, которые он носил с собой. Каждый раз источник приступа мог быть новым - то грибы определенного вида, то пыльца, а то выхлоп идущего передом снегохода.
В апреле Поднебенный вызвал Митю в Москву отправлять экспедиционный груз. Весной предстояла поездка в Эвенкию, где требовалось провести орнитологическое обследование. Там на реке Верхний Чепракон Митя познакомился с молодым охотником Геннадием Хромыхом. Пока Митя копался с мотором, Геннадий по-хозяйски изучил ящик с ключами и весело подмигнул Мите:
- Люблю в чужих инструментах копаться!
У него были серые глаза в сухих складочках и рыжеватая борода, состоящая из нескольких крупных волн. Вскоре Хромых перебрался на Енисей. Митя встретил его осенью в Дальнем, он ехал из Лебедя, соседнего поселка, где стал жить. Поздоровался он с Митей как со старым знакомым.
Снова увидел Митя Хромыха следующей зимой. Закупив на Новый год продуктов, он выезжал на "Буране" из Лебедя, уже по уши засыпанного снегом и до гипсовой твердости укатанного ветрами. Ураганная верховка гнала сухой снег по застругам, и навстречу, в снежной пыли, с ревом взмывал на взвоз "Буран" с пылающей фарой, с привставшей, ворочающей руль и полной победного напряжения фигурой. Заиндевелый суконный костюм был белым, сахарно белела борода, усы, оторочка шапки вокруг красного лица. За "Бураном" металась нарта с увязанными в монолит мешками, канистрами, бензопилой. Это был возвращавшийся с промысла Хромых, он только взмахнул рукой и еще наддал газу, продолжая глядеть куда-то вперед, Мите за спину.
В следующий приезд Хромых предложил у него остановиться, на следующую осень пригласил с собой на Лебедянку.
- По-ехали, - говорил он, ударяя на "е", с той уговаривающей интонацией, с какой обращаются к неразумно-младшим, - "Буран" поможешь увезти, мяса возьмешь.
Перед этим Митя с Мефодием ездили по Подсопочной рубить площадки для учетов. Поднимались на длинной дюралевой лодке под дождем, сизо застилающим повороты реки. Осень, набирающая ход, дождь, вот-вот грозящий перейти в снег, мутная даль - все это Митя впитывал, наслаждаясь и возней с мотором, и мокрой обстановкой лодки с разбросанными инструментами, и ночевкой в тайге.
Река была каменистой и мелкой, они без конца рвали и меняли шпонки, но Митя запасливо прихватил моток стальной проволоки, и, пока один рулил, другой работал напильником. Митя сидел на носу, показывая дорогу, для чего Мефодием была придумана целая система знаков, например, поднятый кулак означал камень. Мефодий, напряженно сжав челюсти и морщась при каждом ударе мотора о камень, сидел за румпелем. В мелких местах тащились, бредя по галечнику, где прозрачная вода неслась упругой плитой, норовя сбить с ног. Ночевали на берегу в гари, среди обугленных кедров. Развели костер, натянули навес из брезента, пили чай, порывы ветра взметали искры, и дым был особенно синим, как всегда в сырую погоду. Среди дров оказалась пихта, Митя проворчал, щурясь и отворачиваясь от дыма:
- Зараза, дрова - пихта, кхе-кхе, дымят, стреляют - спальники бы не спалить.
Мефодий с раздражением и осуждением отрезал:
- Да какие бы ни были, хрен с ними, лишь бы закончить скорее - да в Москву!
Поднялись до места, сделали работу и вернулись в Дальний, спустившись за день и в мелких местах сплавляясь на шестах. Мефодий торопился, думал о предстоящей дороге. Приехав в Дальний, Митя посадил его на баржу и, не разбирая вещей, уехал в Хромыху.
Гена разбудил его в седьмом часу и, пока он умывался, долго что-то доувязывал, переставлял в ящиках, негромко и глухо переговариваясь с женой. Та сосредоточенно дособирала мешочек с шаньгами. Укрытый "Буран" с вечера стоял на берегу. Рядом чернела на бревешках-покатах десятиметровая деревяшка, свежесмоленая, длинная, как пирога, похожая на какой-то древний музыкальный инструмент. Борт ее возле носа ломался наподобие грифа. Нос был длинный, высоко поднятый. Острый, как бритва, форштевень, или по-кержацки носовило, был вытесан из кедрового бруска, на самом конце он торчал квадратным четвериком, снизу которого была выбрана изящная, как у свистка, фасочка. Снегоход загнали по доскам своим ходом, синий дым повис слоями и, растягиваясь, долго и тягуче сплавлялся вместе с течением. Рядом сухонький дедок дядя Илья сталкивал лодку.