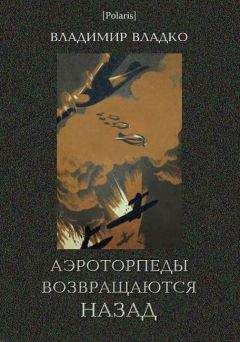Болеслав Маркевич - Четверть века назад. Часть 1
— Они что-же, въ Москвѣ теперь станутъ жить по зимамъ? заинтересовался Гундуровъ.
— По неволѣ! Княгинѣ-то смерть хочется въ Петербургъ, — да не рѣшается. Князь Ларіонъ ни за какія сокровища не поѣдетъ теперь въ этотъ „ефрейторскій городъ“ — какъ онъ однажды выразился при мнѣ; — ну, а одной ей тамъ поселиться, — не выходитъ! Личныхъ связей у ней никакихъ тамъ, разумѣется; къ тому же съ замужества все за границей жила; кто ее тамъ изъ Петербургскихъ въ Ганноверѣ помнитъ! Богата она очень, могла бы домъ открыть… Но, первое, денегъ она безъ особаго разсчета кидать не любитъ; а затѣмъ, деньгами Петербургъ не удивишь, надо тамъ еще чего-то, — и она это хорошо понимаетъ. Что въ Петербургѣ за открытый домъ, куда Дворъ не ѣздитъ? Ну-съ, а этого она могла бы достигнуть единственно чрезъ князя Ларіона, если бы онъ былъ въ прежнемъ положеніи. Вотъ она и молится о немъ денно и нощно: „пошли ему Господи поменьше гордости, а свыше побольше къ нему милости,“ — и въ ожиданіи исполненія желаній, возитъ скрѣпя сердце дочь въ Московскій свѣтъ, который почитаетъ нестоющимъ вниманія уже потому что „dans tout Moscou, говоритъ она, il n'y a pas l'ombre d'un женихъ pour ma fille…“
— Удивительный ты человѣкъ, Ашанинъ, замѣтилъ, улыбаясь его спутникъ, — чтобы про каждаго, куда только вхожъ, всю подноготную разузнать!
Ашанинъ весело пожалъ плечами:
— И не стараюсь, само какъ-то въ уши лѣзетъ. У Шастуновыхъ живетъ одна немолодая особа дѣвическаго званія, Надеждой Ѳедоровной Травкиной прозывается, весьма не глупая и, знаешь, этотъ особый родъ старыхъ дѣвъ: иронія снаружи, и тщательно скрываемая, безконечная сентиментальность внутри… Она князю газеты читаетъ, и пользуется вообще извѣстнымъ значеніемъ въ домѣ… На первыхъ же порахъ моего знакомства съ ними сталъ я замѣчать что она по мнѣ втайнѣ млѣетъ, — такое ужь у меня счастіе на этихъ особъ! — и Ашанинъ поднялъ глаза къ небу… Что же однако, думаю, пусть себѣ млѣетъ, меня отъ того не убудетъ. Сталъ я ее, знаешь, поощрять. Она мнѣ всю закулисную про этотъ домъ и выложила… И вотъ эту самую Надежду Ѳедоровну, заключилъ онъ, — я заставлю теперь королеву Гертруду сыграть; отлично сыграетъ, ручаюсь тебѣ!..
— А Клавдіо кто бы могъ? заволновался опять Гундуровъ.
— Разумѣется, Зяблинъ. Такъ и смотритъ театральнымъ злодѣемъ!
— Ты Лаерта?
— Или Гораціо, мнѣ все равно. Пусть Лаерта лучше сыграетъ Чижевскій, — онъ съ жаркомъ актеръ. А мнѣ роли поменьше учить!..
— Вальковскій Полонія!
— Не выгоритъ у него, боюсь, закачалъ головою Ашанинъ;- онъ его сейчасъ шаржемъ возьметъ… А тамъ у нихъ, слышно, есть мѣстный актеръ превосходнѣйшій, — исправникъ, Акулинъ по фамиліи отставшій кавалеристъ; такъ вотъ его надо будетъ попробовать. Дочь у него также отличная актриса, говорятъ, институтка Петербургская, — и съ прелестнымъ голосомъ, хоть оперу ставь, говорятъ…
Друзья опять заговорили о Гамлетѣ, объ искусствѣ… Юный, бывалый восторгъ накипалъ постепенно въ душѣ Гундурова. „Что-же, не пропадать въ самомъ дѣлѣ,“ все громчѣе говорилось ему. Ему не дозволяютъ быть ученымъ, — онъ не въ состояніи сдѣлаться чиновникомъ… Но вѣдь вся жизнь впереди, онъ не знаетъ что будетъ дѣлать, но онъ не сложитъ рукъ, не дастъ себя потопить этимъ мертвящимъ волнамъ, онъ найдетъ… А пока онъ уйдетъ, какъ говоритъ Ашанинъ, отъ всего этого гнета, отъ тревогъ жизненной заботы въ волшебный, свободный миръ искусства, онъ будетъ переживать сладостнѣйшія минуты какія дано испытать человѣку: его устами будетъ говорить величайшій поэтъ міра, и человѣчнѣйшій изо всѣхъ когда-либо созданныхъ искусствомъ человѣческихъ типовъ. Погрузиться еще разъ въ его безконечную глубину, стихъ за стихомъ прослѣдить геніальныя противорѣчія этой изумительно сотканной паутины, немощь, безуміе, скептицизмъ, высокій помыслъ, и каждой чертѣ дать соотвѣтствующее выраженіе, найти звукъ, оттѣнокъ, жестъ, и пережить все это въ себѣ, и воспроизвести въ стройномъ, поразительномъ, животрепещущемъ изображеніи, — о, какой это великолѣпный трудъ, и какое наслажденіе!..»
И Гундуровъ, надвинувъ покрѣпче отъ вѣтра мягкую шляпу на брови, уютно уткнувшись въ уголъ коляски, глядѣлъ разгорѣвшимися глазами на бѣжавшее въ даль сѣроватою лентой шоссе, съ подступавшими къ нему зелеными лугами, только что обрызганными какою-то одиноко пробѣжавшею тучкою… Все тѣ же неслись онѣ ему на встрѣчу, съ дѣтства знакомыя, съ дѣтства ему милыя картины и встрѣчи. По влажной тропкѣ, за канавкою, идетъ о босу ногу солдатикъ, съ фуражкою блиномъ на затылкѣ, съ закинутыми за спину казенными сапогами; кланяются проѣзжимъ въ поясъ прохожія богомолки въ черныхъ платкахъ подвязанныхъ подъ душку, съ высокими посошками въ загорѣлыхъ рукахъ; лѣниво позвякиваетъ колокольчикъ обратной тройки, со спящимъ на днѣ телѣги ямщикомъ, и осторожные вороны тяжелымъ взмахомъ крылъ слетаютъ съ острыхъ грудъ наваленнаго по краямъ дороги щебня… А солнце заходитъ за кудрявыя вершины недальняго лѣсочка, и синими полосами падаютъ отъ него косыя тѣни на пышные всходы молодой озими… И солнце и тѣни, и эта волнующаяся тихая даль родной стороны, и теплыя струи несущагося на встрѣчу вѣтра, — все это какимъ-то торжествующимъ напоромъ врывалось въ наболѣвшую «въ Петербургской мерзости» душу молодаго человѣка, и претворялось въ одно невыразимо сладостное сознаніе бытія, въ безпричинное, но неодолимое чаяніе какого-то сіяющаго впереди, невѣдомаго — но несомнѣннаго счастія…
Онъ съ внезапнымъ порывомъ обернулся къ товарищу:
— Жить надо, а? Жить, просто жить, такъ Ашанинъ?
— И на-слаж-дать-ся! отвѣтилъ ему тотъ пятью звучными грудными нотами въ нисходящей гаммѣ,- и тутъ-же сразу затянулъ во всю глотку старо студенческую пѣсню,
Gaudeamus igitur,
Juvenes dum su-umus.
— Что, хорошо? засмѣялся онъ въ отвѣтъ на смѣявшійся же взглядъ обернувшагося на эти звуки ямщика, — это, братъ, по нашенски: валяй по всѣмъ, пока кровь ключомъ бьетъ!..
— Эхъ вы, соколики! тутъ-же мигомъ встрепенувшись на козлахъ, подобралъ разомъ четверку такой же какъ и Ашанинъ черноглазый и кудрявый ямщикъ, — и коляска, взвизгнувъ широкими шинами по свѣже настланной щебенкѣ, понеслась стремглавъ подъ гору, и взлетѣла на пригорокъ словно на крыльяхъ разгулявшагося орла…
На другой день, рано утромъ, пріятелей нашихъ, сладко заснувшихъ подъ полночь, разбудилъ старый слуга Гундурова. Они подъѣзжали къ Сицкому.
II
Большой, бѣлый, Александровскаго времени домъ въ три этажа, съ тяжелыми колоннами подъ широкимъ балкономъ и висячими галлереями, соединявшими его съ двумя, выходившими фасадами на дворъ, длинными флигелями, глядѣлъ, если не величественно, то массивно, съ довольно крутой возвышенности, подъ которою сверкала подъ первыми лучами утра довольно широкая, свѣтлая рѣчка, въ полуверстѣ отсюда впадавшая въ Оку. Темными кущами спускались отъ него по склону съ обѣихъ сторонъ густыя аллеи стариннаго сада, а передъ самымъ домомъ стлался ниспадающимъ ковромъ испещренный цвѣтами лугъ, съ высоко бившимъ фонтаномъ на полу-горѣ. Сквозь деревья нарядно мелькали трельяжи и вычурныя крыши Китайскихъ бесѣдокъ, и свѣжеокрашенныя скамейки бѣлѣли надъ тщательно усыпанными толченымъ кирпичемъ дорожками.
— А вѣдь красиво смотритъ! говорилъ Ашанинъ, любуясь видомъ, въ ожиданіи парома подтягивавшагося съ того берега.
Гундуровъ еле замѣтно повелъ плечомъ.
— А тебѣ не нравится?
— Не приводитъ въ восторгъ, во всякомъ случаѣ, отвѣчалъ онъ не сейчасъ;- мнѣ, засмѣялся онъ, — какъ сказалъ древній поэтъ, — «болѣе всего уголки улыбаются.»
— Вѣрю, замѣтилъ Ашанинъ, — только вотъ бѣда: въ уголкѣ-то «театрика» не устроишь.
— Дда, — не будь этого…
Ашанинъ глянулъ ему прямо въ глаза:
— А знаешь что, Сережа, я тебѣ скажу — вѣдь ты ужасный гордецъ!
Румянецъ внезапно вспыхнулъ на щекахъ Гундурова:
— Я гордецъ! Изъ чего ты взялъ?…
— А изъ того, голубчикъ, что я тебя лучше самого себя знаю… Только повѣрь, тебя здѣсь ничто не оскорбитъ!
— Да я и не думалъ…
— Ну, ладно!
И Ашанинъ, не продолжая, побѣжалъ на паромъ.
— Колокольчикъ подвяжи! наставлялъ онъ ямщика, — а то мы, пожалуй, тамъ всѣхъ перебудимъ. Бывалъ ты въ Сицкомъ?
— Какъ не бывать, батюшка! Возили!..
— Такъ какъ бы намъ такъ подъѣхать, чтобъ грохоту отъ насъ поменьше было?
— Да вамъ къ кому, къ самимъ господамъ, аль къ управителю? молвилъ на это уже нѣсколько свысока ямщикъ.
— Къ скотнику, милый мой, къ скотнику! расхохотался Ашанинъ. — Трогай!..
Они поднялись по шоссированной, отлогою спиралью огибавшей гору дорогѣ — и очутились у ограды на каменныхъ столбахъ, съ желѣзными между ними копьями остріемъ вверхъ, и высокими по середкѣ воротами аркою, надъ которой словно зѣвала разинутая часть грубо вытесаннаго изъ мѣстнаго камня льва на заднихъ лапахъ, съ передними опиравшимися на большую позолоченную мѣдную доску, на которой изображенъ былъ рельефомъ княжескій гербъ Шастуновыхъ. Все это было ново и рѣзало глаза свѣжею бѣлою краской и рѣзкостью линій….