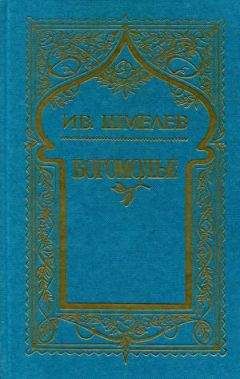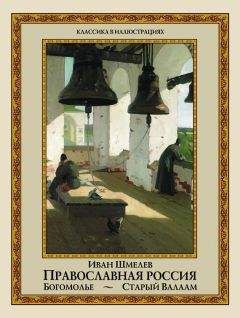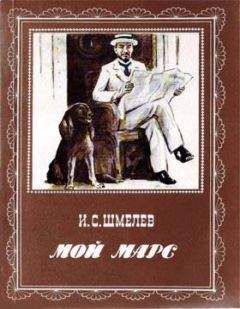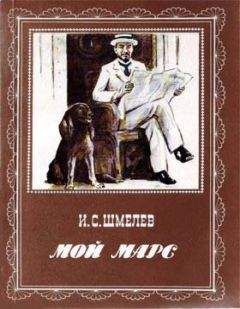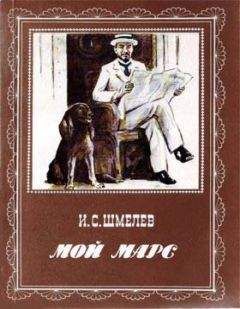Иван Шмелев - Богомолье
Это к тому он — не пропил, стало быть. Сказал я папашеньке, а он пошел к себе и выносит мне золотой. Велел Мартыну дать, будто нашли его, не тревожился чтобы уж для смерти. Дал я ему и говорю: «Верно сказывал, сыскался твой золотой».
Так он как же возрадовался — заплакал! Поцеловал золотой и в руке зажал. Соборовали его, а он и не разжимает руку-то, кулаком, вот так вот, с ним и крестился, с золотым-то, рукой его уж я сам водил. На третий день Пасхи помер хорошо, честь честью. Вспомнили про золотой, стали отымать, а не разожмешь, ни-как! Уж долотом развернули, пальцы-то. А он прямо скипелся, влип в самую долонь, в середку, как в воск, закраишков уж не видно. Выковырили мы, подня-ли… а в руке-то у него, на самой на долони, о-рел! Так и врезан, синий, отчетливый… царская самая печать. Так и не растаял, не разошелся, будто печать приложена, природная. Так мы его и похоронили, орленого. А золотой тот папашенька на сорокоуст подать приказал, на помин души. Хорошо… Что ж ты думаешь!.. Через год случилось: стали мы полы в спальнях перестилать — и что ж ты думаешь!.. Под его изголовьем, где у него образок стоял… доски-то как подня-ли… на накате на черном… тот самый золотой лежит-светит!.. а?! Самый тот, царский, новешенькой-разновешенькой! Все сразу и признали. То ли он его обронил, как с-под иконы-то тащил пропивать, себя не помнил… то ли и вправду от себя спрятал, в щель на накат спустил… — «в душу-то от себя схоронил», сказывал мне тогда, помирал… Тут уж он перед всеми и оправдался: не проступился, вот! И все так мы обрадовались, панихиду с певчими по нем служили… хорошо было, весело так, «Христос воскресе» пели, как раз на Фоминой вышло-то[12]. Подали тот золотой папашеньке… подержал-подержал… «Отдать, — говорит, — его на церкву, на сорокоуст! пускай, — говорит, — по народу ходит, а не лежит занапрасно… это, — говорит, — золотой счастливый, непропащий!» Так мне его желалось обменить, для памяти! Да подумал — пущай его по народу ходит, верно… зарочный он, не простой. И отдали. Так вот теперь и ходит по народу, нечуемо. Ну, как же его узнаешь… нельзя узнать. Вот те и рассказал. Вот, значит, и пойду к Преподобному, зарок исполню, Мартына помяну… Ну, вот… и опять захлюпал! А ты постой, чего я тебе скажу-то…
Я неутешно плачу. Жалко мне и Мартына, что он помер… так жалко! И что того золотого не узнаю, и что Горкин один уходит…
Приезжает отец — что-то сегодня рано, — кричит весело на дворе: «Горкин-старина!» Горкин бежит проворно, и они долго прохаживаются по двору. Отец веселый, похлопывает Горкина по спине, свистит и щелкает. Что-нибудь радостное случилось? И Горкин повеселел, что-то все головой мотает, трясет бородкой, и лицо ясное, довольное. Отец кричит со двора на кухню:
— Все к ботвинье, да поживей! Там у меня в кулечке, разберите!..
И обед сегодня особенный. Только сели, отец закричал в окошко:
— Горка-старина, иди с нами ботвинью есть! Ну-ну, мало что ты обедал, а ботвинья с белорыбицей не каждый день… не церемонься!
Да, обед сегодня особенный: сидит и Горкин, пиджачок надел свежий и голову намаслил. И для него удивительно, почему это его позвали: так бывает только в большие праздники. Он спрашивает отца, конфузливо потягивая бородку:
— Это на знак чего же… парад-то мне?
— А вот понравился ты мне! — весело говорит отец.
— Я уж давно прндравился… — смеется Горкин, — а хозяин велит — отказываться грех.
— Ну, вот и ешь белорыбицу.
Отец необыкновенно весел. Может быть, потому, что сегодня, впервые за столько лет, распустился белый, душистый такой, цветочек на апельсинном деревце, его любимом?
Я так обрадовался, когда перед обедом отец кликнул меня из залы, схватил под мышки, поднес к цветочку и говорит: «Ну нюхай, ню-ня!» И стол веселый. Отец сам всегда делает ботвинью. Вокруг фаянсовой, белой, с голубыми закраинками, миски стоят тарелочки, и на них все веселое: зеленая горка мелко нарезанного луку, темно-зеленая горка душистого укропу, золотенькая горка толченой апельсинной цедры, белая горка струганого хрена, буро-зеленая — с ботвиньей, стопочка тоненьких кружочков, с зернышками, — свежие огурцы, мисочка льду хрустального, глыба белуги, в крупках, выпирающая горбом в разводах, лоскуты нежной белорыбицы, сочной и розовато-бледной, пленочки золотистого балычка с краснинкой. Все это пахнет по-своему, вязко, свежо и остро, наполняет всю комнату и сливается в то чудесное, которое именуется — ботвинья. Отец, засучив крепкие манжеты в крупных золотых запонках, весело все размешивает в миске, бухает из графина квас, шипит пузырьками пена. Жара: ботвинья теперь — как раз.
Все едят весело, похрустывают огурчиками, хрящами — хру-хру. Обсасывая с усов ботвинью, отец все чего-то улыбается… чему-то улыбается?
— Так… к Преподобному думаешь? — спрашивает он Горкина.
— Желается потрудиться… давно сбираюсь… — смиренно-ласково отвечает Горкин, — как скажете… ежели дела дозволят.
— Да, как это ты давеча?.. — посмеивается отец, — «делов-то пуды, а она — туды»?! Это ты правильно, мудрователь. Ешь, брат, ботвинью, ешь — не тужи, крепки еще гужи! Так когда же думаешь к Троице, в четверг, что ли, а? В четверг выйдешь — в субботу ко всенощной поспеешь.
— Надо бы поспеть. С Москвой считать, семь десятков верст. К вечерням можно поспеть и не торопиться… — говорит Горкин, будто уже они решили.
У меня расплывается в глазах: ширится графин с квасом, ширятся-растекаются тарелки, и прозрачные, водянистые узоры текут на меня волнами. Отец подымает мне подбородок пальцем и говорит:
— Чего это ты нюнишь? С хрену, что ль? Корочку понюхай.
Мне делается еще больней. Чего они надо мной смеются! Горкин — и тот смеется. Гляжу на него сквозь слезы, а он подмаргивает, слышу — толкает меня в ногу.
— Может, и мы подъедем… — говорит отец, — давно я не был у Троицы.
— Вот, хорошее дело, помолитесь… — говорит Горкин радостно.
— Мы-то по машине, а его уж… — глядит на меня отец, прищурясь. — Бог с ним, бери с собой… пускай потрудится. С тобой отпустить можно.
Верить — не верить?..
— Уж будьте покойны, со мной не пропадет… радость-то ему какая! — радостно отвечает Горкин, и опять растекается у меня в глазах. Но это уже другие слезы.
— Ну, пусть так и будет. И Антипа с вами отпускаю… Кривую на подмогу, потащится. Устанет — поприсядет. Верно, брат… всех делов не переделаешь. И передохнуть надо…
Верить — не верить?.. Я знаю: отец любит обрадовать. Горкин моргает мне, будто хочет сказать, как давеча: «А что я те сказал! папашенька добрый, я его вот как знаю!..» Так вот о чем они говорили на дворе! И оттого стал веселый Горкин? И почему это так случилось?.. Я что-то понимаю, но не совсем. И почему все отец смеется, встряхивает хохлом и повторяет: «Всех делов, брат, не переделаешь… верно! делов-то пуды, а она — туды!..» Кто же это — она!.. Я что-то понимаю, но не совсем.
Сборы
И на дворе, и по всей даже улице известно, что мы идем к Сергию Преподобному, пешком. Все завидуют, говорят: «Эх, и я бы за вами увязался, да не на кого Москву оставить!» Все теперь здесь мне скучно, и так мне жалко, что не все идут с нами к Троице. Наши поедут по машине, но это совсем не то. Горкин так и сказал:
— Эка, какая хитрость, по машине… а ты потрудясь Угоднику, для души! И с машины — чего увидишь? А мы пойдем себе полегонечку, с лесочка на лесочек, по тропочкам, по лужкам, по деревенькам, — всего увидим. Захотел отдохнуть — присел. А кругом все народ крещеный, идет-идет. А теперь земляника самая, всякие цветы, птички тебе поют… — с машиной не поравнять никак.
Антипушка тоже собирается, ладит себе мешочек. Он сидит на овсе в конюшне, возится с сапогом. Показывает каблук, как хорошо набил.
— Я в сапогах пойду, как уж нога обыкла, — говорит он весело и все любуется сапогом, как починил-то знатно. — Другие там лапти обувают, а то чуни для мягкости… а это для ноги один вред, кто непривычен. Кто в чем ходит — в том и иди. Ну, который человек лапти носит, ну… ему не годится в сапогах, ногу себе набьет. А который в сапогах — иди в сапогах. И Панкратыч в сапогах идет, и я в сапогах пойду, и ты ступай в сапожках, в расхожих самых. А новенькие уж там обуешь, там щегольнешь. Какое тебе папашенька уважение-то сделал… Кривую отпускает с нами! Как-никак, а уж доберешься. Это Горкин все за тебя старался… — уж пустите с нами, уж доглядим, больно с нами идти охота. Вот и пустил. Больно парень-то ты артельный… А с машины чего увидишь!
— Это не хитро, по машине! — повторяю я с гордостью, и в ногах у меня звенит. — И Угоднику потрудиться, правда?
— Как можно! Он как трудился-то… тоже, говорят, плотничал, церквы строил. Понятно, ему приятно. Вот и пойдем.
Он укладывает в мешок «всю сбрую»: две рубахи — расхожую и парадную, новенькие портянки, то-се. Я его спрашиваю: