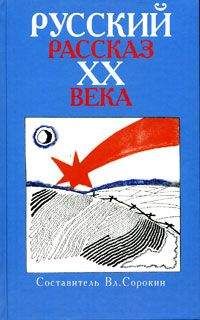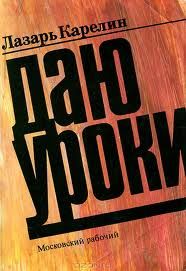Лазарь Карелин - Последний переулок
В арку, если оглянуться, виден был край дома Кочергина, а тополь почти все загородил, но край, угол дома все же был виден. Геннадий оглянулся. Что там у них? Может, все-таки Аня ушла, уехала домой? Нет, она сказала матери по телефону, что заночует у подружки. Изолгалась! Но плохо ей, плохо потому и выгнала их. Худо ей там! "На женщину стоит ли обижаться?" - спросил Кочергин. Он все знает, все понимает, а сам запутался.
- Ты что все оглядываешься? - спросила Зина.
- Между прочим, та Зина, которая меня вчера намахала, живет в этом доме, - сказал Геннадий.
- Но ты не на этот дом оглядываешься, а вон на тот.
- Между прочим, она только что мне позвонила, просила прощения. Ты бы простила, если б тебе изменили?
- Никогда!
- Вот и я повесил трубку.
- Хотя я не знаю, - задумалась Зина. - Я ведь никогда не любила по-настоящему. В школе... Это была детская любовь. Не знаю, если очень любить, можно и многое простить. Я так думаю. А ты?
- Не знаю. - Он в последний раз оглянулся, входя в подъезд, где жила старуха. - Спроси у Клавдии Дмитриевны, а еще лучше у Пьера. Они всё знают.
- Ты бы лучше у них спросил, зачем ты оглядываешься.
Клавдия Дмитриевна жила в первом этаже. Ее дверь была в стене еще до ступеней очень осевшей лестницы с очень истертыми, но мраморными ступенями, - сразу, как вошли, и ее дверь по левую руку.
- Я низко к земле живу, - сказала старуха. - Зато у меня отдельный вход.
Дверь была неимоверно обшарпана. Все тут было неимоверно обшарпанным. Ремонтировали здесь, стало быть, одни только фасады.
- Нас скоро сносить будут, зачем же нам ремонт? - спросила Клавдия Дмитриевна, перехватив сочувственный Зинин взгляд. - Но я страшусь этого мига. Переселение начнется. А зачем мне новая квартира, хоть мне и сулят совсем новую квартиру? Мы с Пьером привыкли тут. У нас тут совсем неплохо. Убедитесь. А переселят - и мы помрем. Стариков нельзя передвигать. Милости прошу, входите.
Клавдия Дмитриевна добыла из кармана один-единственный ключ, повернула им разок всего в какой-то дыре в двери, и дверь сама пошла, скрипя, кряхтя, зависая слегка на петлях, сама отворилась. Можно было и не замыкать ее на этот ключ, ничего не стоило, лишь толкнув посильней, отворить эту дряхлую преграду.
Вошли во тьму, вступили в запахи не противные, но чужедавние, странные. Пахло незнакомо, таких запахов просто не существовало нигде в том мире, в котором жили Геннадий и Зина. Не пылью, не старьем пахло, а если и пылью и старьем, то уж очень они тут были древними. Пахло древностью. И пахло еще как в зоомагазине, этот запах был знаком все-таки, пахло обиталищем старой птицы, со своими причудами, со своей едой-питьем, чуть было не подумалось, что и со своей дымящейся трубкой у клюва.
Клавдия Дмитриевна затеплила лампочку под потолком в тесной, затесненной неимоверно дубьем шкафов прихожей. Лампочка засветилась как-то не сразу вдруг, она вот именно затеплилась, а потом уж стала светить. И лампочка была древней формы, как груша, убереглась, не сгасла от времен почти доисторических, из раннего детства Геннадия глянула. Такие лампочки, выкинутые на помойку, ребята отыскивали, чтобы потом швырнуть обо что-то твердое, о стену из кирпича, а в ответ раздавался настоящий взрыв. Нынешние лампочки, маленькие, красивенькие, не разрываются так, они легонько лопаются. Зато и перегорают, не послужив почти людям.
- Прошу, молодые люди, прошу. Не ушибитесь только об углы. - Старуха повела их через узкий проход между шкафами, еще одну отворила дверь, едва толкнув, она была не заперта. Оттуда, из комнаты, грянул дневной закатный свет. Коричневые, новенькие лучи. Сегодняшние.
Они вошли в комнату. Она оказалась большой, потолок был высоким, хотя квартирка двумя окнами прилегла почти к земле. Здесь все было старьем, слагалось из каких-то цветных лоскутов, развешанных по стенам, наброшенных на ужасающе провалившийся, бугрящийся диван, на узенькую коечку, по виду совсем солдатскую, прибранную, с чистым солдатским серым одеялом, с чистыми подушками горкой. Эта полоска серая, но чистая, была тут от жизни, а все прочее будто из вымершего. Нет, еще вот большая клетка, нарядная, дорогая, с бронзовыми креплениями - она тоже обжитой имела вид, хотя и стариной от нее веяло, но прочная была вещь, красивая, хоть в музее выставляй. Пьер слетел с плеча Клавдии Дмитриевны и, явно гордясь и похваляясь своими хоромами, сел на клетку. А вообще-то он тут повсюду жил, везде были следы его когтистых лапок, царапины от его поклевов. Он и ел-пил везде. Тут стояла чашечка, там виднелась плошечка.
А еще были на стенах фотографии. Во множестве. В разных причудливых рамках. Иная фотография совсем крошечная, а рама громадная, нарядная. И не было стариков и старух на фотографиях, одни только молодые лица. Улыбки были скромны, но молоды. Мужчины топорщили усики. Дамы, совсем молоденькие, в больших шляпках или простоволосые, но тогда с высокими прическами, были приветливы, простодушны, но и кокетничали явно, что-то такое изображая непременно - то ли невинность свою демонстрируя, то ли суля нечто сладостное, сокрытое за потупленным взором.
Картон с нынешними красавицами и красавцами внезапно очень к месту тут пришелся. Как приставил его Геннадий к стенке, так он тут и зажил, заискрился улыбками, место сразу нашлось. Конечно, совсем не те лица, и ужимок никаких в них не видно, все не то, не так, все естественно, мило-просто. А все-таки, а что-то и друг другу зов подает. Из былого - в сегодня, из сегодня - в былое. Ничто так не дается переменам, как человек. Смотришь на иную фотографию сегодняшнего парня, а он - надень на него кафтан да шапочку надвинь с бархатным верхом кульком, - а он, гляди, из опричной свиты самого Ивана Грозного, или, если поближе, если фуражечку надвинуть, он - гимназистик, студентик. Лица все в родстве, лицами стережет человек память о своих корнях, творит слепок родства.
Происхождение... Мы стали забывать про это анкетное понятие. Если про анкетное, то и правильно. Но происхождение - не пустое дело. И суть не в том, кто ты по анкете, хотя, конечно, если из трудового народа, то уже и сразу суть нашлась. Да, суть именно в том, каких ты корней, какого труда был твой отец, твой дед, твой, если запомнили в семье, и прадед. Суть - в корнях. А корни - они в почву входят. Суть в той почве, на которой вырос. Сорт твой человеческий - вот что важно. Говорят, нечего кивать на пережитки. Верно, зачем на пережитки все валить? Зряшное это дело. Не о пережитках прошлого, а о сбереженности из прошлого следует подумать, о сортности человека.
- Чайком вас могу попоить, молодые люди, - не совсем напористо предложила Клавдия Дмитриевна. - Хотя заедок каких-то там особых у меня нет. Тебя-то там небось, - она кивнула на окна, - разносолами угощали. Видела я ту корзинку, которую ты волок. Ох, Зина, какие же из нее фрукты высовывались! После, когда прошли он да она, эта Лунина, вот эта вот на картоне в центре, аромат в нашем переулке еще долго жил. Как встарь в Елисеевском. Теперь там так не пахнет. Если желаешь вдохнуть аромат, теперь не в магазин иди, а на рынок. Там он ухоронился.
Геннадий подошел к одному из окон, поглядел, но только сохлые стебли от высаженных под окном цветков увидел да верхушку арки, да узкую полоску, полумесяцем, к сумеркам уже темнеющего неба.
- Спасибо, Клавдия Дмитриевна, - сказал он. - Меня ребята пиво звали пить. Может, присоединитесь?
- Спасибо и тебе, добрая душа. Нет, мы с Пьером по вечерам в бар заглядывать не рискуем. А ты иди, там хоть грязно, но чисто.
- Эти фотографии, эти люди на них, они здесь жили? - спросила Зина, продвигаясь вдоль стен, всматриваясь в лица из прошлого. - Их переодеть, этих женщин, в наше, причесать по-нашему, совсем бы нами стали.
- Кто тут жил, а кто, как вот на этом картоне, был тогда знаменит, сюда они не заглядывали, - сказала Клавдия Дмитриевна. - Залетные фото, уж не помню, как они ко мне залетели. Может, собирала тоже. Не помню. И кто да кто - не помню. Все почти забыла. Детство помню. Еще обиды помню. А вот счастливые дни, были ведь такие, их не помню. Странно, правда?
- Как же так? - не поверила Зина. - Только счастливые дни и должны запоминаться. А обиды как раз и надо забывать.
- А вот так, - сказала старуха, устало присаживаясь на краешек своего продавленного, скриплого дивана. - Должны, а забылись, не надо, а запомнились. Ты еще молоденькая, вот в тебе "надо" да "должны" и живут. И обиды ты легко забываешь. Да какие у тебя обиды? А старость - злопамятна. Старуха помолчала, поскрипела диваном, который всякое ее движение метил звуком, похоже, что и дыхание ее озвучивал. - Но... погоди... Вот он тебя обидит, не дай бог, - она сохлым пальцем указала на Геннадия, - а ты, старушкой став, про это и вспомнишь. Не сейчас, потом - через много лет.
- Он меня не обидит. Нужен он мне!
- Это уж вы там сами разберетесь, кто кому нужен. Конечно, обидно, когда молодой человек на тебя не глядит, а все в окна поглядывает. Он тебя обижает, его там обидели. Не сердись на него, ему, гляжу, тяжелей.