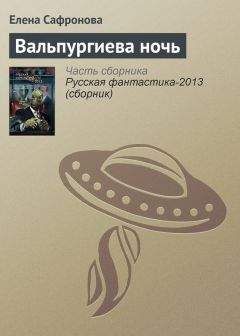Федор Кнорре - Каменный венок
Дожидаясь посадки, я сижу и читаю на таблице расписания список белорусских городов и станций, которые вскоре потом наполнятся зловещим смыслом, когда придется слушать по радио: "Наши части оставили..." А сейчас там только мирные имена городов, час и минуты прихода и ухода поезда номер такой-то.
И в вагоне нет обычной тесноты, как-то никто не торопится, точно где-то решается общая судьба, а каждому за себя уже хлопотать не о чем, все равно - будет, как будет.
На маленькой белорусской станции я ранним утром выхожу из вагона. Пустынная платформа, кроме меня, кажется, никто не сходит.
Сережа увидел меня, медленно идет навстречу, я вижу, как трудно ему идти медленно. Он похудел, форма на нем сидит не блестяще - он ведь не кадровый, а мобилизованный. Мы смотрим друг на друга и улыбаемся одной и той же мысли - вот как мы оказались наконец вместе, не на берегу моря, а почему-то здесь, на платформе чужого городишка, и не знаем, что будет завтра.
Я спускаюсь по крутым ступенькам вагона на дощатую платформу, и мы медленно идем друг другу навстречу, всё ближе, я вижу, что воротник ему свободен, широковат, и его улыбку вижу, чудную, кривоватую - больше одним углом рта, чем другим, сдержанно-виноватую. Ему неловко очень уж открыто обрадоваться. Он чувствует себя не очень-то красивым и не очень молодым, да еще в этой плохо пригнанной форме - и уж вовсе совестно вдруг при всем пароде просиять, точно счастливому мальчику-влюбленному.
И вот он с моим чемоданчиком, я с сумочкой, в которой привезла ему яблоки и пирожки, идем рядом, куда-то по улице, которую я вижу в первый раз, идем и боимся друг на друга глядеть, и на каком-то углу он говорит: вот это самая главная улица - наши казармы налево, а направо - в том конце, только подальше, там замок посреди пруда в парке, и я ничего не слышу того, что он говорит, а как будто записываю - потом вспомню, когда успокоюсь, все уляжется во мне.
- Давай я вот сюда повешу, - и я чувствую на своих плечах прикосновение его рук, когда он бережно в темном, тесном коридорчике в первый раз в жизни снимает с меня пальто, вешает на гвоздь рядом со своей шинелью и чужой ватной курткой.
- Вот это наша комната, темноватая, а? - нерешительно спрашивает он, как будто я еще должна решить этот вопрос, и тревожно ждет, на пороге пропустив меня вперед.
Жиденькая щелястая верандочка в две ступеньки над землей вместо крылечка прикрывает выход в сад.
На глаженой чистой солдатской простыне, постеленной на стол, накрыт завтрак - черный и белый хлеб, консервные банки с зазубренными отогнутыми крышками, две совсем разные большие чашки, пять штук одинаковых сероватых пирожных. Посреди стола горкой наложены в плетушку яблоки - крупные, свежие, восково-желтые, в легком румянце с одного боку, - не то что кисловатые уродцы, зеленые, которых я привезла ему из города.
Два прибора: тарелка, нож, вилка и ложка - большая суповая.
- А эти ложки зачем? - спрашиваю я.
- Ну действительно, зачем? - он даже руками разводит. - Это я, знаешь ли, сам накрывал.
Мы точно двое людей, до того долго в одиночестве проживших среди немых или иноязычных племен, что разучились родному языку, и вот теперь заново учимся говорить друг с другом, и с каждым словом и каждым звуком голоса нам делается все понятнее услышанное и легче говорить самому, а что говорить почти безразлично.
Сережа приносит из кухни чайник, я нарезаю хлеб, мы садимся и пьем чай, пододвигаем друг другу тарелки, все делаем озабоченно и старательно, боясь и на минуту остаться без дела.
Тяжелая ветка с осенними темными усталыми листьями сгибается, шуршит и постукивает о частый переплет стекляшек терраски.
Немного погодя он испуганным шепотом спросил, заметив, верно, у меня слезы в глазах, хотя я в это время оживленно и храбро прихлебывала и жевала:
- Что ты?
- Ничего, ну совершенно ничего. Просто: вот мы пьем чай.
- Да, - коротко сказал он, сдерживая волнение, подтверждая, соглашаясь, все понимая. - Да, да!..
- Вот мы наконец дома, - сказала я, открыто плача и улыбаясь ему.
Тогда он, роняя что-то со стола на пол, неловко кинулся, схватил меня за руку и, опустившись рядом, уронил голову ко мне на колени, крепко прижимая мою ладонь к своему лицу; мы снова коснулись друг друга и поцеловались впервые не в лесу, не на вечерней набережной в тени моста, не на ветру, не под дождем. Учились говорить, касаться, продираясь сквозь колючую, холодную чащу прожитых лет.
Сережа ушел в свою пулеметную роту, которой теперь командовал, а я его проводила до ворот.
Когда я уже не могла различить его зеленую гимнастерку и фуражку среди великого множества других, среди солдат, стоявших, перебегавших, расхаживавших взад и вперед по плацу каким-то новым для меня, странным, печатающим шагом, круто поворачивавшихся на ходу, я пошла обратно, равнодушно побродила по незнакомым улицам и вернулась в комнату, чтоб поскорее начать его ждать...
Я читаю второе в жизни письмо от Сережи... Первое было написано в дни нашей молодости, нашей едва начинающейся молодости, когда нам решительно все на свете было ясно, все было по колено, не только что море, а все эти "сантименты", любовные страдания, какие-то "измены", ревности и прочая ерунда, да и вообще все решительно, что относилось к презираемой нами категории "личного", все было невыносимо устаревшее, отжившее, что к нашей жизни не имело никакого отношения. Место этому было разве что в старинных спектаклях бывших императорских театров, куда мы ходили изредка в культпоходы; с отчужденным сочувствием людей с другой планеты мы прислушивались к мольбам и стенаниям страдающих героев, запутавшихся в трех соснах. Пустили бы нас туда, мы бы живо распутали: этого вытолкать в шею, того сдать, как вредный элемент, в милицию, а ей разъяснить, что делом надо заниматься, а не руки ломать из-за какого-то паразита...
Впрочем, ведь это было когда-то, в старину, даже до 1905 года! Ну, не повезло им. Мы пожимали плечами и в антрактах пели в фойе свои развеселые песни...
И наверное, то, какими мы были, а может быть, только хотели быть, и отразилось в первом письме, полном ледяного рассудочного холода, иронии, а то просто мальчишеской заносчивости и жестокости.
И больше всего того, что мы тогда считали гордостью.
И вот теперь - второе, недописанное, которое он по вечерам все собирался дописать и мне послать, а по утрам со стыдом закладывал в книгу и прятал под подушку.
Писал, боясь, что я не приеду и мы не увидимся никогда... И ошибся-то всего на четыре дня. Но, к счастью, ошибся.
А мне отдать постеснялся, я сама под подушкой нашла его, вот такое письмо...
"Ты все знаешь про этого человека, почему и как все с ним случилось. Он решил, что поступает твердо и разумно, - значит, правильно, и нечего больше рассуждать, долг человека неуклонно поступать согласно своим убеждениям, и точка.
Он оттолкнул от себя свою ненужную, неправильную, неразумную любовь, столкнул ее в погреб, захлопнул крышку люка, выполнил долг и стал свободен для дальнейшей полезной деятельности.
Правда, по ночам ему долго казалось, что он слышит, как она тихонько плачет и, вскрикивая полушепотом, то проклинает его, то нежно просит все вспомнить...
Он был, наверное, очень гордый и очень твердый тогда, этот человек, он затыкал уши, скрипел зубами, чтоб ничего не слышать и продолжать выполнять свое разумное, трезвое решение.
И наконец он перестал мучиться, раскаиваться и ничего не слышал по ночам, все стало ему все равно, он вовсе перестал испытывать боль, спокойно слушая музыку, от которой у него прежде, как сумасшедшее, колотилось сердце, и он удивительно стал холодеть ко всем людям, и вот он вдруг понял, что сам начинает умирать, наполовину уже умер, и вот тогда он кинулся в погреб и уже едва узнал свою любовь, она в темноте и одиночестве тоже умирала, еле дышала, когда он подхватил ее на руки, укачивая, как ребенка, и он понял, что в ней была вся его жизнь, без нее он был бы мертвый человек, а разве..."
Мы не говорили никогда об этом письме, - наверное, такое пишут перед близкой смертью или вечной разлукой, и так это и было у нас с Сережей, хотя мы этого не знали.
Он, кажется, догадывался, что я и письмо нашла, но молчал. Не все человеку хочется повторять два раза...
Я долго днем сидела одна, сложив руки, и так хорошо, так незнакомо мне было тут одной в пустой комнате, потому что было чего ждать.
Дверь с коротким взвизгом, порывисто распахивается, я вздрагиваю от неожиданности.
- Стакан чая? - панически выпаливает Меер Яковлевич, всовываясь, как бы впадая в комнату до половины туловища, еле удерживаясь за ручку и за косяк, чтоб действительно не упасть, но из деликатности не переступая порога комнаты.
Он выстреливает это "стакан чая", в точности как другой человек крикнул бы во время наводнения: "Вас затопило!"
Это вдовец, хозяин квартиры.
Минуту, дожидаясь ответа, он висит, вывернувшись на руках, как гимнаст на кольцах, потом исчезает, притворив дверь.