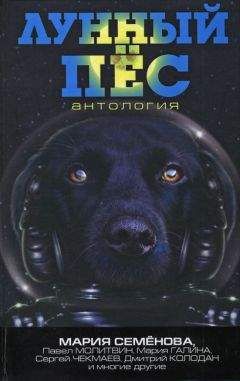Нодар Думбадзе - Белые флаги
– Вот и прекрасно! Покажем тебя главному врачу.
– Здравствуйте! – поздоровался главврач.
– Здравствуйте! – ответил сумасшедший.
– Как вы себя чувствуете, дорогой? – участливо поинтересовался главврач.
– Благодарю вас, хорошо. А вы как себя чувствуете? – вежливо спросил главврача сумасшедший.
– Спасибо… Как вы поступите, если мы вас сейчас отпустим домой? спросил главврач.
– Так же, как и вы! – ответил сумасшедший.
– То есть? – заинтересовался главврач.
– Пойду домой! – объяснил сумасшедший.
– Слышите? – обернулся главврач к врачам.
– А дальше?
– Поступлю на работу, подыщу себе место этак рублей на четыреста пятьсот в месяц – больше мне не нужно, человек я одинокий – и заживу спокойно.
– Да кто же тебе, дураку, даст такое место! – удивился главврач.
– Почему же, уважаемый? – обиделся сумасшедший. – Чем я хуже других дураков?
– Да нет, ничуть не хуже! – поправился главврач.
– Потом я женюсь! – продолжал сумасшедший.
– Молодец! – одобрил главврач. – Дальше?
– Справлю свадьбу.
– Потом?
– Потом… – Сумасшедший смутился. – Потом, когда разойдутся гости, отведу жену в спальню, погашу свет…
– Понятно, понятно! – прервал его главврач.
– Что вам понятно, уважаемый? – спросил удивленно сумасшедший.
– Достаточно… Дальше уже неинтересно! – улыбнулся главврач.
– Что вы, уважаемый! Интересное только начинается!
– Нет, нет! Не нужно! – всполошился главврач, беспокойно поглядывая на врачей-женщин. Но остановить сумасшедшего было уже нельзя.
– Когда разойдутся гости, – продолжал он, – отведу жену в спальню, погашу свет, уложу её в постель…
– Потом, потом?! – подскочил Шошиа.
– Сниму с неё платье, сорочку, трусы, вытяну из них резинку, сделаю себе рогатку и пойду бить стекла!
– Тьфу! Мерзавец! Дурак! Испортил все дело! – Шошиа был вне себя от досады.
– Ничего, Шошиа, он получил свое, – отправили обратно в палату! успокоил я Шошиа.
– Потом?
– Потом, спустя год, выяснилось, что наш сумасшедший был в сговоре со стекольщиком. Вот и все!..
– А при чем тут я? – спросил Шошиа.
– При том, что каждый раз, о чем бы ты ни говорил, в конце концов ты сворачиваешь на то, как прогонишь жену и женишься на Сиран! – объяснил я.
– Все равно прогоню! – вздохнул Шошиа…
Видение третье
Сон заключенного должен походить на рай. И пусть в этом раю поют канарейки… Сон заключенного должен походить на мечту – пеструю и красивую, как радуга, – не так ли, Шошиа?
Во сне ему должна сниться возлюбленная – краса несказанная, прильнувшая к его груди, – не так ли, Шошиа?
Во сне он должен быть вольным, как орел, и гордо парить над миром, широко расправив крылья, – не так ли, Шошиа?
Ложем ему должны служить цветы, подушкой – луна, а покрывалом звездное небо, – не так ли, Шошиа?
Он должен увидеть во сне такое, чтобы ему не захотелось просыпаться, – не так ли, Шошиа?
Во сне человек должен стать солнцем, чтоб, плывя по небу, согревать землю и людей, – не так ли, Шошиа? И это солнце должно полыхать, как факел! Не так ли, Шошиа?
Но если и во сне я сижу в тюрьме, слышу твоё хныканье, и во сне меня кусают клопы, и во сне я вижу через отверстие в двери настороженный глаз надзирателя, ем тюремную пищу и жду, когда возвестит о моей судьбе зажатый в руке следователя колокольчик, – то что же это за сон? Ведь такой сон ничем не отличается от яви. Не так ли, Шошиа?
Вот и сейчас во сне я вижу тебя. Ты сидишь на своей галерке, смотришь в окошко, поешь свои песни и мечтаешь превратиться в скворца и улететь. А как же я? Неужели ты оставишь меня одного? Не улетай, Шошиа!
Шошиа отрицательно покачал головой:
– Не могу больше, Заза! Душа истомилась! Иссякли мои силы!
– Не губи меня, Шошиа! Не покидай меня!
– Я должен улететь, Заза!
– Не улетай, Шошиа!
– Не могу больше! Завтра начинается суд… Я не вынесу этой муки!
– Как же ты улетишь, ведь ты не птица?
– Улечу! Захочу – и превращусь в птицу!
– Дуралей ты, Шошиа!
– Захочу – и превращусь в птицу! Хочешь, я и тебя превращу в птицу?
– Зачем мне быть птицей, я ведь человек!
– Ну, так гляди!
Шошиа спустился с окна, стал спиной к стене, развел руки в стороны и сделался похож на распятого на кресте Христа. Долго он стоял так, а потом стал постепенно уменьшаться.
– Что ты делаешь, Шошиа? – воскликнул я в ужасе.
Он лишь хитро улыбался в ответ, становясь между тем все меньше и меньше.
– Шошиа, не надо, Шошиа!
Я с плачем и криком бросился к двери и заколотил в неё кулаками. Напрасно! Кругом стояла такая могильная тишина, словно и эта тюрьма, и этот город, и весь мир затонули в воде. А Шошиа все уменьшается. Вот он уже стал не больше моего кулака.
– Шошиа!
И вдруг Шошиа превратился в скворца. Скворец легко перепорхнул с нар на нижний оконный откос и оттуда взглянул на меня, по-птичьи склонив голову набок.
– Что ты наделал, Шошиа!
Скворец свободно пролез сквозь оконную решетку и теперь уже снаружи глядел на меня, словно приглашая последовать за собой.
– Не улетай, Шошиа!
Скворец раскрыл крылья, сорвался с окна и… полетел. Он описал круг над тюремным двором, над административным корпусом, пронесся мимо часового на вышке и взял направление к Арсенальной горе.
– Шошиа-а-а!..
Скворец быстро удалялся. Вот он уже стал похож на маленькую черную точку и исчез, растаял в синеве неба где-то над Кукийским кладбищем…
– Гоголадзе, с вещами! – крикнул надзиратель.
Шошиа чуть было не хватил удар. "С вещами"? Это… Что же это такое?! Каждому известно: на суд заключенных ведут безо всяких вещей! Кроме того, каждого заключенного заранее извещают о дне предстоящего суда… А тут… Без предупреждения, ясно и коротко: "С вещами!"… Шошиа не шелохнулся, не откликнулся, словно приказ касался не его, а кого-то другого, сидящего в другой камере другой тюрьмы.
– Гоголадзе, ты что, оглох? С вещами приказано! – повторил надзиратель и, чуть прикрыв дверь, отошел.
– Что… Что он сказал? – спросил заикаясь Шошиа.
– Зовут тебя! С вещами! – улыбнулся я.
– С вещами? Что за чудо?! – спросил он.
– Чудо! – подтвердил я.
– Кто сказал, что чудес не бывает?
– Я этого не говорил!
– Не ты, так кто-то сказал. Есть чудеса на свете! – У Шошиа задрожали губы.
– Есть, Шошиа!
– Есть на небе бог! – прошептал Шошиа, опускаясь на колени.
– Есть, Шошиа!
– Боже великий! – сказал Шошиа и умолк. Я не знаю, пропал ли у него голос, или он произносил благодарность богу молча, про себя… Он долго молчал, потом быстро встал и торопливо заговорил:
– Говори, где ты живешь? Впрочем, я знаю – Анагская, сорок два! К кому я там попаду? Да, знаю, к твоей матери! Что ей сказать? Ну да, конечно, скажу, что ты чувствуешь себя отлично и чтоб она ждала тебя!
– Чтобы что, Шошиа?
– Чтобы ждала тебя!
– Сумасшедший ты, Шошиа!
– Ничего не сумасшедший! А как её звать? Ах, да, знаю, Анико, тетя Анико, уважаемая Анико!.. Что ещё надо сделать? Кого повидать? Хочешь, пойду к матери убитого, скажу, что не ты его убил?
– Нет, не ходи, Шошиа!!
– Обязательно пойду!
– Гоголадзе, скоро ты там?
– Ну, до свидания, Заза, дорогой мой! – Шошиа порывисто обнял меня, прижал к груди и сломя голову выскочил за дверь, оставив меня наедине с моим горем, надеждой и сомнениями. Улетел скворец. Улетел Шошиа…
…Теперь я забираюсь на галерку Шошиа, у окошка, и часами, не сводя глаз, гляжу на открытый им кусочек моего города…
…Вот крохотная пивная будка и в ней огромный, толстый продавец. Он похож на вставленный в рамку чей-то недорисованный портрет. Недорисованный потому, что я вижу лишь его контуры, разобрать детали отсюда невозможно… Рядом с пивной – аптека. Бывают дни – аптека пуста, ни души, а другой раз она битком набита людьми. Вот и сейчас – хвост очереди тянется вдоль улицы. Видно, в городе эпидемия гриппа… Чуть дальше – парикмахерская. В каждой парикмахерской есть два-три мастера "пинача[44]", которых клиенты избегают. Есть они, видать, и в этой парикмахерской – вот те двое, которые день-деньской сидят на скамейке у дверей и о чем-то мирно беседуют, хотя в посетителях недостатка нет. Иногда к ним присоединяется женщина в белом халате. Это или уборщица, или такая же, как и они, "пиначка"… В шапочном ателье народу обычно мало. Потому, наверно, что люди предпочитают покупать готовые фуражки, шляпы и кепки. И вообще-то головные уборы выходят из моды, полгода люди ходят с непокрытой головой. Раньше шапка считалась у нас символом мужской чести. Может, это правильно, а может, нет. Разве мало в Тбилиси честных, порядочных людей, разгуливающих без головных уборов? Сколько угодно! Вот хотя бы этот гражданин! Что плохого в том, что он без шапки? Ничего! Вот он вошел в аптеку… Вышел… Что-то держит в руке… Лекарство? Да! Положил на ладонь таблетку и быстро отправил в рот. Что? Не лезет в горло? Да вон же пиво, чудак! В двух шагах! Вот так! Подошел к будке, рукой показывает продавцу… Начал пить… Тянет пиво медленно, с наслаждением… Так. Выпил. Заплатил. Задумался. Что же он будет делать дальше?.. Так. Подошел к парикмахерской, заглянул в дверь, потом повернулся, подозвал одного из "пиначей" и вместе с ним вошел в парикмахерскую… Спустя десять минут он вышел, отряхнулся, провел ладонью по лицу… Он сейчас, конечно, пахнет пудрой и дешевым одеколоном… Так… Как же он теперь поступит? Что сделает? А что, собственно, ему делать? Принял лекарство… Выпил пиво… Побрился… Самое время идти домой. Почему же он не уходит? А вот почему – он вошел в шапочную мастерскую! Правильно! Молодец, человек! Купи шапку! Ведь недаром раньше шапка считалась символом мужской чести… В ателье он задержался долго, слишком долго, – я даже подумал, что он, должно быть, там работает. Но нет, он все же вышел из мастерской. Но что это? Он без шапки! Вот, а что я говорил? Сейчас полгорода ходит без головных уборов! Ну и что же? Разве за одно это человека можно упрекнуть в бесчестии! Почему, на каком основании? Или себе, друг, со спокойной душой, топай на здоровье…