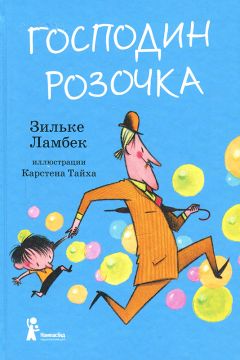Александр Герцен - Том 1. Произведения 1829-1841 годов
– Дитя! – сказала мать улыбаясь.
А писано 22 октября 1837.
Вятка.
Елена*
Und das Dort ist niemals hier!
Schiller[129].Спокойно. Я мой век на камне кончу сем.
Озеров.В небольшом доме на Поварской жил небольшого роста человек. Он жил спокойно, тихо, потому что не умиралось. Весь околоток любил и уважал его; когда он, по обыкновению, приходил в воскресенье к обедне, диакон ставил себе за обязанность поклониться ему особенно; когда он проходил мимо соседней авошной лавочки, толстый лавочник, удивительным образом помещавшийся на крошечном складном стуле, мгновенно вставал, кланялся и иногда осмеливался прибавить: «Ивану Сергеевичу наше низкое почитание». А Иван Сергеевич с лицом, на котором выражалось совершеннейшее спокойствие духа, улыбаясь, принимал эти знаки доброжелательства. Никто не видывал Ивана Сергеевича печальным, сердитым; даже не заметно было, чтоб он старелся. Он являлся на московских улицах здоровым, довольным, счастливым, зимою в теплом сюртуке с потертым бобровым воротником и с палкой из сахарного тростника, летом – в темносинем фраке и с тою же палкой.
«Что это Иван Сергеевич не женится? – говорила часто соседка его, старая генеральша, страшная охотница до архиерейской службы, постного кушанья и чужих дел. – Право, за него можно отдать всякую девушку: ни одного праздника не пропустит, чтоб не быть у обедни. Редкость в наше время такой человек! Вот была бы ему пара Анфисы Николавны племянница». – «Без всякого сомнения», – отвечала проживавшая у генеральши вдова бедного чиновника и которая так же, как и генеральша, не знала ни Ивана Сергеевича, ни племянницу Анфисы Николавны. Поступим же лучше и познакомимся с ним.
Коллежский советник и ордена св. Анны 2-й степени кавалер, Иван Сергеевич Тильков принадлежал к числу тех людей, которые проводят целую жизнь с ясностью осеннего дня и без дождя и без солнца. Воспитанный некогда у профессора Дильтея в маленьком домашнем пансионе, где был прилежным и благонравным учеником, он образованием своим стоял выше большей части тогдашней молодежи. Сначала его записали в гвардию; тихий, флегматический и не очень богатый, он не мог участвовать в буйной и роскошной жизни своих товарищей. Его сделали полковым адъютантом, и тут он приобрел искреннюю любовь офицеров, потому что не ябедничал на них полковому командиру и не переменял порядок дежурства и нарядов по первой просьбе. Домашние обстоятельства заставили его перейти в гражданскую службу, и, сняв свой невинный меч, он принялся за перо. Служивши советником в какой-то коллегии, он умел сохранить чистоту совести и чистоту рук, читал каждую бумагу от доски до доски и являлся всякий день в 9 часов утра на службу. Теснимый председателем, он, не ссорясь, вышел в отставку, взял с собою чин коллежского советника, орден св. Анны 2-й степени, уважение сослуживцев и спокойствие духа человека, убежденного, что не сделал ничего злого. Но что же ему было делать дома? Он не имел близкого человека, которому мог бы передать думу или чувства, волновавшие его душу; но он не имел и этих дум. Все семейство его состояло из старухи Устиньи, которая ходила за ним, как за ребенком, и огромной датской собаки, Плутуса, за которой он ходил, как за сыном. Сначала являлась у него мысль, что жизнь его не полна, что нет никого, кто встретил бы его при возвращении в небольшой домик, что на Поварской, кто стер бы пот и пыль не только с лица, но и с души. Мысль эта занимала его несколько времени; он даже намекал об этом Устинье, и Устинья советовалась тайком от него с ворожеею, какая будет невеста: трефовая или червонная; но как приступить к такому трудному делу? Между тем время шло, шло, а Иван Сергеевич старелся да старелся. Потом являлась еще другая мысль. У него было душ сто крестьян в Смоленской губернии, из коих пятьдесят платили оброк, а прочие, зная нрав барина, платили только старосте за право не давать ни копейки помещику. Почему ж не ехать в свою деревню, не завести хозяйство, не сеять лозу и клевер, не пахать по-голландски нашу русскую землю? И вот он купил все тома «Трудов Вольного экономического общества». Но какое страшное одиночество! Сверх того, и на это надобно было более решимости, нежели у Ивана Сергеевича было. Что ж делать? Остаться холостым в Москве – это было всего легче, стоило только продолжать жить. Правда, горькие минуты бывают с человеком, который, думая до 45 лет, что из себя сделать, увидит, наконец, что уж выбор невозможен и что некуда себя деть, а остается доживать свой век, пока бог грехам терпит. В эти горькие минуты, которые бывали, впрочем, очень редко, Иван Сергеевич брал шляпу, палку из сахарного тростника и отправлялся или гулять до тех пор, пока физическая усталость сделается отдыхом моральной, или к одному из двух-трех знакомых, просиживал там несколько часов и потом преспокойно возвращался домой, где на лестнице ожидал его Плутус, а в горнице – Устинья. Но сутки состоят из 24 часов, и потому за всеми посещениями, за сном, за обедом остается еще много времени; его Иван Сергеевич употреблял на приведение в порядок своих вещей и на чтение.
Какая-то египетская стоячесть царила в его холостой квартире: двадцать лет стоял диван, обитый некогда синей бомбой, на одном и том же месте, а перед ним – овальный стол орехового дерева. Двадцать лет на его письменном столе лежала пара старых шведских пистолетов с медными дулами, машинка, которой нельзя чинить перьев, колокольчик, несколько книг и бумаг; один календарь, возрождаясь ежегодно, определял движение времени. Иван Сергеевич так привык к порядку, что не мог видеть равнодушно какую-либо вещь не на своем месте, то есть не на том, которое принадлежало ей по праву десятилетней давности. Редкие посещения немногих знакомых, мытье полов, вставка рам разрушали по временам этот порядок и давали ему занятие. Он располагал все по-старому и, пользуясь случаем, перетирал пистолеты, отвинчивал замки, мазал их маслом и т. д. Когда ничего уже не оставалось приводить в порядок, он принимался читать сначала «Московские ведомости», потом книги, которых у него было довольно в большом шкафе, близ письменного стола. Он откровенно восхищался Расином и Херасковым, удивлялся смелой фразе только что появившегося Карамзина и, что удивительно, охотнее всего брался за какой-нибудь роман. Сколько раз перечитывал он «Manon Lescaut» «La religieuse» и другие усопшие повествования об усопших людях прошлого века. Впрочем, это понятно: роман некоторым образом заменял ему жизнь действительную.
Таким образом жил Иван Сергеевич, готовясь попасть в тот просцениум Дантова ада, где бродит толпа душ, не имеющих места ни в раю, ни в преисподней. Пожалеем об этих людях, которые провели жизнь без юности, без пламенных страстей, без дурачеств, без мечтаний о славе, любви, дружбе. Правда, их жизнь спокойна, но спокойна, как кладбище; сколько ни было бы доброты в них, но эгоизм прокрадется под конец в сердце. Порицать Ивана Сергеевича нельзя; от природы флегматик, он был встречен беспорядочными нравами прошлого столетия, когда царило суесвятство и полуатеизм Вольтера, ничем не стесняемый прихотливый разврат вельмож и низкое рабство их клиентов. В нем не было той самобытности, которая выносит человека над толпою, ни той пошлости, которая заставляет другого делить с нею ее сальные пятна, и потому он отстранился от людей и мог бы умереть, не сделав ничего доброго, кроме благодетельных попечений о Плутусе, – словом, исчезнуть, «как струя дыма в воздухе».
Иначе судила судьба!
В последние годы прошлого столетия, когда Екатерина, солнце этого полного, пышного века, согревшее всю Русь материнской любовью, нежной, женской, склонялось к западу и садилось в красные тучи, – Устинья с удивлением стала замечать, что Иван Сергеевича чаще не бывает дома, что он иногда забывает кормить Плутуса и при чае откладывать для нее три кусочка сахара. Желая удостовериться в справедливости своего замечания, она переложила на столе пистолеты, и две недели прошло прежде, нежели Иван Сергеевич заметил это нарушение порядка. «Странно», – думала она, качая головою, и не могла догадаться. Наконец, Иван Сергеевич воротился однажды домой очень поздно, задумчивый, рассеянный и с заплаканными глазами. Вслед за ним приехала карета, и в ней привезли полуторагодового ребенка со всем детским багажом. Рыдая, прощалась с ним какая-то женщина, одетая в черное платье и повязанная белым платком, целовала руки Ивана Сергеевича, просила бога ради не оставлять круглую сироту; потом речь шла о каких-то похоронах, о какой-то свадьбе… Устинья ничего не поняла – она же была крепка на ухо. Вдова бедного чиновника, жившая у генеральши, на другой день рапортовала ее превосходительству о подъезжавшей ночью карете к дому Ивана Сергеевича, о том, что в ней приезжала женщина, что дворник Ефимыч спрашивал у кучера, чья карета и кто приехал, но не мог ничего узнать, ибо карета была наемная. Когда женщина уехала, Иван Сергеевич с величайшей аккуратностью начал учреждать люльку, передвинул диван, который без этого обстоятельства мог бы умереть на своем месте, и просил Устинью ходить за ребенком как можно лучше, а пуще всего – никогда не спрашивать, откуда он, кто он, зачем привезен. За это он обещал ей двойное жалованье и давно желанную русскую тафту на покрышку вытертого заячьего салопа. Иван Сергеевич заботился о ребенке, как самая нежная мать; всякое утро осматривал он, чисто ли белье, щекотал его подбородок, благословлял его, играл с ним; в день это повторялось несколько раз, и, как бы поздно ни возвращался он домой, всегда подходил к люльке поправить одеяльце, хотя бы оно очень хорошо лежало, и посмотреть на него с любовью. Плутус стал играть второстепенную роль в доме, но, будучи не человеком, он за это не только не съел и не задушил Анатоля, но, напротив, жил с ним по-братски. Когда в гостиной расстилали ковер на полу и пускали ползать маленького Анатоля по правилам, извлеченным Иваном Сергеевичем из «Эмиля», огромный Плутус непременно являлся играть. Анатоль теребил его за уши, за хвост, клал ручонку в его пасть, улыбался ему, целовал его, и никогда тени негодования не было заметно на чрезвычайно важном лице Плутуса; он лизал Анатолю ноги, а пуще всего слизывал с рук его остатки молочной каши. Часто, прижавшись к Плутусу, Анатоль засыпал, и тогда Плутус не дозволял до него дотрогиваться даже Устинье, которую уважал, как мать родную. Несравненно смешнее было видеть, как нянчился Иван Сергеевич с ребенком. Не брав отроду маленького в руки, он далеко уступал в ловкости Плутусу, и Устинья всякий раз отнимала Анатоля, который плачевно обращал к ней взор. Иван Сергеевич радовался, что жизнь его имеет пользу, цель, и в день раз десять перекладывал сдвинутые Анатолем вещи.