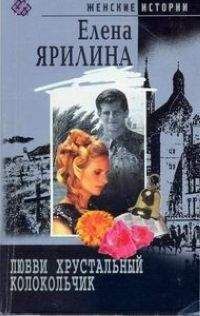Сергей Юрьенен - Дочь генерального секретаря
* Один из "больших магазинов" Парижа.
- Тебе.
Дубленка. Ослепительная. Белая, как снег. Мех воротника ласкает щеки. Преображенная, опять парижская, Инеc поворачивается от зеркала и чувствует сама - глаза сияют. Тем более, что оторопелому избраннику протягивается кабинетный пиджак с замшей на локтях:
- В Лондоне купил. Примерь.
Александр себя не узнает.
- Вот! Сразу видно, что писатель. А это, - вынимая шаль и по-испански, - я для его матери. Они уже здесь?
Помолвка...
Этот момент неминуем.
Встречи миров.
Один из которых - и это видно уже издалека - заранее в обиде. Так они переминаются, поскрипывая снегом, на фоне полутемного дома. Отморозивший здесь ноги еще в 41-м, в составе сибирских дивизий, которые спасли Москву, отчим молчит, а мама не скрывает:
- Прилетаем, никого...
- Столичные дистанции, - бормочет блудный полу-сын. - Ни телефона, ни... Это Инеc.
- Очень приятно. Мы уже восвояси собирались. Не солоно хлебавши...
Беспощадной правды о сыне-нелегале родители не знают, но хватает и того, что есть. Что учебу он никак не кончит, вбил в голову себе, что он "писатель", а вот теперь еще и это...
- Иностранка, значит, говоришь?
Мать моет тарелки после концентрированного французского супчика из спаржи, отсёрбав который отчим удалился до утра по военно-полевому принципу "недоешь-переспишь".
- Нет, - отвечает Александр. - Цену набивает. Сарказмы его игнорируются:
- Я почему? Акцента никакого, излагает гладко. Наши не все так говорят... И с виду тоже. То ли еврейка, то ли грузинка. Я думала, Софи Лорен. Или эта, которая тебе так нравилась.
- Кто мне нравился?
- Уже не помнит... Моника Витти.
- Это итальянки.
- А она?
- Испанка.
Помолчав, мать говорит:
- Зарежет.
- За что?
- А как Кармен.
- Это Кармен зарезали, а не она.
- Видишь? Они такие.
- Какие?
- Док-кихоты в облаках, а не по-ихнему что, сразу за нож. - Чтобы из ванной не услышали, голос понижается. - Папаша ее...
- Что?
- Партейный шибко?
- Лидер...
- А с нашими-то как? Этот все переживает, дужки очков изгрыз. На партсобрании им говорили... Какие-то там "евро" появились, так вроде наши их не очень. Сам знаешь, как у них. Вчера "Москва-Пекин, идут-идут народы", сегодня это... Хуйвэйбин. Тьфу? Не захочешь - скажешь. А ты не смейся, а подумай лучше. Куда, сынок, влезаешь...
- Никуда я не влезаю.
- Дома жил, все собачились. Сталин, Солженицын, лагеря... Переменился, что ли?
- Почему? Остался каким был.
- Тебе видней, конечно. Только не для того я тебя рожала, чтобы отдавать им ни за понюшку табака.
- Кому?
Намертво заворачивая кран, она смотрит обреченно и как на последнее говно, которое только у матери способно вызвать жалость:
- Кому-кому... Сам знаешь.
Инеc они, скорее, нравятся. Как из кино пятидесятых. Предстоящая бель-мэр похожа... она не помнит на кого, но отчим - чистый Бэрт Ланкастер.
- Понимаешь...
- Спи. Как будет, так и будет.
Висенте приехал в Спутник, имея в кармане пиджака билеты в Большой театр. Чтобы после ритуала увезти обретенных родственников на "Анну Каренину" - с Плисецкой.
Но до спектакля еще было время.
Сторона Александра вручила испанцу ответный дар.
Матрешку.
В присутствии старшего по званию советский ее почти бопер и Бэрт Ланкастер стояли столбом - почти по стойке "смирно", но, к счастью, в позиции невмешательства. Тогда как бель-мэр, следуя неизвестному Западу принципу "ругай своих, чтобы чужие хвалили" для начала обрушилась на Александра-сына не то, чтобы заблудшего, но как бы уже гибнущего. Слушая в синхронном переводе Инеc очередную дозу утешений со стороны Висенте, она начинала горестно кивать. На мякине нас не проведешь - такой имела вид бель-мэр. И в этом смысле самовыража-лась - с помощью Инеc, которая переводила с отрешенным видом.
Висенте излучал все больший оптимизм по поводу выбора своей дочери:
- Все у него будет хорошо. И диплом получит, и книгу свою напишет увидите. Еще и не одну.
Мать вздыхала:
- Нашему б теляти...
На что, опуская ладонь Александру на колено, Инеc переводила с испанского:
- О чем вы говорите? Молодой, красивый, спиритуальный, полный сил...
- Каких же сил, когда он болен. Ничего, что я, сынок? Скрывать от суженой нельзя.
На лице Висенте сияющая маска отслоилась:
- Que le pasa?*
* Что случилось? (исп.)
- Что с ним? - перевела Инеc.
- Язва.
- Какая?
- Двенадцатиперстной.
Висенте отмахнулся:
- Во Франции у каждого второго...
- Хроник. С тринадцати лет страдает. Когда уединяться стал, но я боролась, предупреждала, потерпи хоть до шестнадцати...
Неужели и это переводит?
- Пройдет, как не было. Любовь излечит. Главное, что любят они друг друга.
- Любовью сыт не будешь, говорят у нас...
- Ну это как-нибудь.
- А как?
- Ну, будем помогать из Франции.
- Потому что нам тут помогать не на что, а на стипендии свои не проживут. Тем более с ребенком.
Мертвея, Инеc перевела. Ее отец не потерял улыбки: - Nino? Que nino?
Как машина, она перевела и этот вопрос:
- Какой ребенок?
Мать Александра возмутилась:
- Меня что, в этом доме за дуру принимают?
- Нет, - прервала Инеc посредничество в деле взаимопонимания миров. Мой отец не знал, что я беременна. Estoy encinta Padre?
Висенте окаменел.
Инеc тоже.
Оставшись без перевода, бель-мэр продолжала одностороннее общение:
- Чего таить, теперь свои же люди? В третьем колене, значит, как? Отца, когда забрали, он кровь был с молоком - силач-бомбила. Мать моя умерла от рака поджелудочной, но по отцовской линии ему, скорей, грозит по-легочному. Как говорится, петербургская болезнь. Это тебе на будущее, а отцу передай, чтоб за генофонд не беспокоился, ведь я вижу, улыбается, а сердце на части рвется. Дедуля Александра, правда, запил с горя, когда жизнь не получилась, но уже под старость лет, а так - (и отчиму) ну, что ж, Михаил? Стыдиться перед Западом нам вроде нечем. Ни алкоголиков, ни этих, венболезней. Дурдом нас тоже, слава Богу, миновал. Так что с наследственностью все о'кей. Как вы говорите. Или только в Америке?
Это был "Скверный анекдот". Необратимо. Что все это случилось Александр отказывался верить.
Под человеком, хоть и нелегальным, но с остатками достоинства, каким он был до этой международной встречи, разверзлась бездна унижения, и он летел туда со всем, что было за душой - с непоправимой, все еще красивой матерью, с бедным, но честным сталинистом, который в своем изгнанническом сибирстве даже Федора Михалыча не признавал за русского, с ним, с Достоевским, с Петербургом, со всем, что от страны осталось еще внутри, в груди, под солнечным сплетением, которое сжалось, как кулак.
И все это срывалось в пропасть.
Вися в полете...
Дна поскольку не было.
Теперь мать повышала его акции, заодно входя в детали на тему, чего ей это стоило: "Галстуки пионерские только шелковые были..."
Удерживая пепел на весу, испанский тесть затягивался как-то из-под сигареты.
Александр встал.
Отсутствующим пахом уперся на кухне в подоконник.
Внизу терпеливо сверкала "Чайка" - черное зеркало на пылающей голубизне.
Вошла Инеc.
- Найди мне способ самоубийства.
Отобрала сигарету, затянулась.
- А ты мне.
Бэрт Ланкастер, в лице не изменившись, одевался сам с присущей обстоятельностью, тогда как галантный иностранец, прощелыга и, надо думать, ловелас, подавал матери пальто, на котором она, стыдливо оглядываясь, ловила, пытаясь сокрыть руками, какие-то дефекты - эти вот вытертости, что ли?
- А вот спросить насчет "евро"... Чего ты молчишь, Михаил? По-русски-то понимает. Товарищ Висенте? не заню, как по отчеству. Я чего... У нас в России говорят, высоко взлетел, не пришлось бы падать. Так вот все эти "волги"-"чайки", марецкие-плисецкие, Кремль-Москва...
С хищной улыбкой Висенте осматривал свою западноевропейскую шляпу.
- А не получится, как в Африке? Как того, Алесандра... Чумба? Чомба?
Даже отчим крякнул:
- Эк тебя...
- А что? Я - мать.
Со шляпой в пальцах Висенте откуда-то издалека смотрел на дочь, которая очень спокойно спросила:
- Что вы имеете в виду?
- А то, что раньше во всех газетах: "Чомбе! Чомбе!" Сейчас открой хоть "Правду", хоть "Известия". Где Чомбе? Был, и нет? А эти что тогда - на шею Михаилу?
Достала.
Глаза сверкнули гневом, но, надев шляпу, пожилой испанец снова улыбнулся:
- Гарантий требует? Переведи. Русский сказал... Игры не будет, ничего не будет.
Не без кокетства мать взяла его под руку.
У выхода Александр поймал полу суконной шинели: "Ты мелом где-то..." Очищая, добавил, что в Большой театр простому смертному попасть непросто, тем более на Плисецкую.
- А-а, - разжал горло отчим. - За меня не беспокойся. Вернусь, сынок, литр водки выпью и буду жить, как не было.
Сжимая забытую матрешку, Инеc смотрела вслед. Она отвернулась, но он заметил, что на лице ее блеснули слезы.