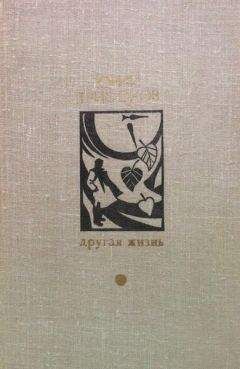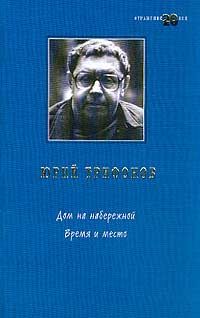Юрий Трифонов - Нетерпение
ГОЛОС ФРОЛЕНКО М. Ф.
Я, Фроленко, по кличке Михайло, пригласил Андрея Желябова на тайный съезд в Липецке, и с этого началось его восхождение на нашем горизонте. Из мало кому известного провинциального бунтовщика (Да какого бунтовщика? Народника, мечтателя!) он вмиг превратился в атамана, в вождя террора. И все после той истории с быком, которую я рассказывал. У меня не было доказательств, но я чуял в нем натуру бунтовщика. Все же я знал его чуть больше, чем другие. Бывал у него на одесской квартире, разговаривали, шумели, пели наши хохлацкие песни, и на тех "вечорницах" я слышал рассказы о всякого рода буйствах, проделках, стычках с полицией и прочих казацких подвигах. Он любил покрасоваться, малость побахвалиться: характер-то рыцарский, а рыцарство это всегда некоторая похвальба. И тогда я услышал историю про быка.
Запомнил такую фразу: "Я понял, что нет на свете такого страшного быка, которого нужно бояться".
Дело в том, что когда меня срочно вызвали после соловьевского покушения в Петербург совещаться по поводу съезда, в городе царило небольшое обалдение и паника. Правительство в ярости - и верно, как бешеный бык - бросалось из стороны в сторону, кидало рогами то либералов, то студентов, то вовсе невинных людей, кто попадался под копыта. Введены были военные губернаторства, пошли аресты, обыски, ссылки: все враз закипело и сгустилось втрое. Ну и те, деревенщики, стали нас клясть: "Ага, вот ваш Соловьев! Вот к чему это приводит. Вся наша работа к бису". А мы отвечали: "А вы, други добрые, надеялись, что враг не будет сопротивляться? Эге, умники! Будет сопротивляться, будет злобствовать, будет нас убивать, но и у нас есть выход: убивать его". Разговоры наспех, в запале, один на один или, по крайности, двое на двое ничего не давали и только усугубляли сумбур. Собраться всем! Вызвать деревенщиков, горожан, бунтарей, все наличные силы. Объясниться начистоту, окончательно организоваться или уж - окончательно враздробь. Где? Сначала придумали - Тамбов, потом остановились на Воронеже, где есть славный монастырь, Митрофановский, и куда летом народу наезжает тьма. Но прежде Воронежа все мы, сторонники нового метода, то есть террора - Тигрыч, Воробей, Дворник, Александр, Зунд и еще несколько человек - постановили сойтись где-то отдельно, чтобы столковаться заранее. Решили - в Липецке, близ Воронежа, городишко недурной, тоже удобен: там лечебный курорт, приезжает публика.
У меня спрашивали: кого можно пригласить с юга? Не в Воронеж, а в Липецк. Нужны, мол, верные хлопцы, которые поддержат наши идеи, чтобы к Воронежу сколотить большинство. Я назвал Желябова. Его знали по Большому процессу. Были изумлены: "Да он же завзятый народник!"
Я говорил: верно, народник, но в душе бунтарь. Да чем же он проявил свое бунтарство? Ничем, в том-то и дело. Доказательств нема. В юности какие-то наивные студенческие мятежи в университете, потом кружки пропагандистов, потом процесс, где вел себя вполне смирно и незаметно, хотя и отказался отвечать суду. Но ведь отказалось большинство, почти все. И, однако, я угадывал, готов был поклясться, что он отчаяннейший бунтарь! Для того, чтобы убедить товарищей, я рассказывал всем одну-единственную бунтарскую историю: с быком Степкой. Слышал от Андрея. Однажды он работал в поле, вдруг крик матери, испуганный, он оглянулся и видит: по полю бежит страшный черный бык Степка, его вся деревня боялась, прямо на мать. Андрей выдрал из плетня дрын, бросил в быка, попал ему по ногам и бык упал: это дало несколько секунд, мать спаслась.
Вот, собственно, вся история, как ее рассказывал Андрей. Он говорил о том, что нечеловеческий, ужасный страх за мать заставил его в одно мгновенье принять нужное решение - ничто другое, наверное, не спасло бы. Я же передавал эту байку, как героическую сагу: будто бы он схватил вилы, пошел на быка, и тот испугался и пустился наутек. И, как ни странно, "сказочка про черного быка" оказала действие. Мне сказали: "Давай, зови".
Некоторые потом говорили: тореадорские басни. Я, мол, изобразил его тореадором, каким он не был. Но я-то вышел прав. Он оказался великим тореадором, одним из величайших в истории.
В Одессе я нашел Желябова и спросил, согласен ли он принять участие в продолжении соловьевского дела. Он ответил: согласен. Но когда услышал про липецкий съезд, про то, что создается постоянная организация и будут, значит, другие дела, много дел, он заколебался и сказал, что нужно подумать.
Думали с ним долго, до глубокого вечера, и решили так: он согласен на единичный акт, и останется с нами, пока этот акт не будет выполнен. Затем он свободен и может уйти. Потребовал, чтобы дали слово, что он волен поступить по желанию: уйти или остаться. Я с суровым и таинственным, партионным видом дал ему такое слово, хотя мы насильно никого не держали. Думаю, что эта оговорка насчет единичного акта и права уйти - была лишь бессознательной хитростью, компромиссом с народнической совестью, ибо то, к чему он пришел, давно уже зрело в его сознании. Вскоре в Одессе появился Дворник - была, кажется, середина мая, - я их познакомил, а сам уехал. Надо было выручать деньги, добытые подкопом под Херсонское казначейство.
А когда в июне мы встретились с ним в Липецке, я его не узнал: законченный террорист! И не просто террорист, а страстный теоретик и обоснователь террора. Мне кажется, его главная сила, как личности, это сила рациональности. Он все железным образом додумывал до конца. Коли поступить так, то другим шагом должно быть это. А коли будет это, то неотложно то-то и то-то, между тем как то-то потребует того-то и так далее до логической точки. Коли дано согласие на единичный акт, значит, нужно этот акт как следует подготовить, значит, нужно создать организацию, а коли создавать организацию - и так далее. И в последний год, когда мы жили отчаянно и слепо, с каким-то смертельным легкомыслием - я говорю о той зиме перед первым марта, иначе нельзя было, иначе сойти с ума, он по-прежнему все докапывал до дна, до предела. И видел этот предел. Спокойно говорил о том, как его будут вешать, даже описывал казнь. Соня бывала вне себя! Она стукала его своим маленьким кулачком, требовала, чтоб он прекратил, но он не мог переделать себя: не мог перестать думать до конца.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Это носилось в воздухе: должен быть ответ, отпор, что-то непременно должно произойти и где-то уже готовится. И когда появился Михайло Фроленко с предложением поехать в Липецк, он не удивился. Не удивился и тому, что во всей Одессе Михайло к первому поехал к нему, да потом еще, кажется, к Коле Колодкевичу, и только прошло время, он вдруг задумался: "Почему же ко мне-то? Ведь знают же, черти, что я социалист, народник!" Но тут было искушение. Невозможно терпеть. И Михайло, гениальный хитрец, угадал верно: бил без промаха.
Ведь все, что медленно варилось в вековом российском котле, теперь бурно и кроваво вскипало: злоба властей, взаимное ожесточение, неуступчивость, желание мести. Какая уж тут пропаганда? Какие поселения? Тут дело пошло на живот и на смерть. В начале апреля одновременно с выстрелом Соловьева в Ростове вспыхнул рабочий бунт: захватили участки, избивали полицию. В середине апреля в Петербурге в военно-окружном суде начался процесс над подпоручиком Дубровиным, оказавшим сопротивление при аресте и, вообще, как видно, человеком дикой отваги, а двадцатого апреля Дубровин казнен. За что? Да вот за сопротивление при аресте, за то, что не хотел смирной овечкой идти на заклание. Но арест-то за что? Письма какие-то найдены у Малиновской, ничего существенного, ерунда. Казнь за письма. Главное: быстро, бесколебательно, по-военному.
Это "по-военному" стало главным принципом после соловьевского покушения. 7 мая открылся процесс Валериана Осинского в Киеве, а через неделю Валериан и два его товарища, Брандтнер и Антонов, уже повешены. Говорят, суд приговорил к расстрелянию, но государь самолично распорядился переменить на виселицу. В середине же мая начался в Киеве процесс братьев Избицких, а двадцать восьмого казнен Соловьев. Неужели эти верховные идиоты, эти тухлые полунемецкие мозги, эти опричники с генеральскими эполетами не понимают, что кровь обернется еще более страшной кровью и падет на их голову? Нет, не понимают, не в силах, не хватает ума перешагнуть через сегодняшнюю злобу и заглянуть в завтра. Да разве же это государственные умы? Вся Россия видит, что надо выпустить пар, дать людям хоть немного свободы, научиться уважать и другое мнение: нет, уперлись, стоят тупо, ни пяди не отдают, и только давят, вешают, заселяют Сибирь. Хотят доказать, что вешают разбойников и убийц. Ничего не докажете, дураки вы, захребетники народные! Вешаете вы лучших и бескорыстнейших русских людей, и за все это будет отплата, очень скоро.
Докатилось до Одессы: над Софьей Лешерн, подругой Валериана, глумились во время суда, а при чтении ей обвинительного приговора устроили гнусный спектакль. Проделали весь обряд смертной казни: надели саван, закрыли голову капюшоном, наложили на шею петлю, и только после прочтения приговора сняли петлю и объявили Лешерн, что она помилована, смертная казнь заменяется вечной каторгой. Не знали, что для нее это худшая мука, она хотела умереть вместе со своим Валерианом и впала в отчаяние, узнав, что остается жить. Нет, надо было поиздеваться над женщиной в такие минуты! Разве можно простить? Что ж они думают: все эти гнусности сойдут им с рук? Валериан в апреле передал письмо из тюрьмы - Михайло рассказывал - очень бодрое, ловкое, в его духе, но все же предполагал худой конец. "Сам, говорит, не знаю, какие прелести сулит мне будущее, все зависит от политического положения данной минуты, а оно после соловьевского покушения не очень розово". Михайло запомнил слово в слово: "Во всяком случае, что-нибудь вроде централки, а может, и вервия". Да, угадал, но того, что во время казни оркестр будет играть "Камаринскую", угадать не мог. Новое изобретение в палаческом производстве. Для толпы: щобы не журились. Подумаешь, одним разбойником меньше!