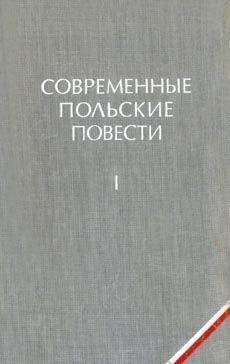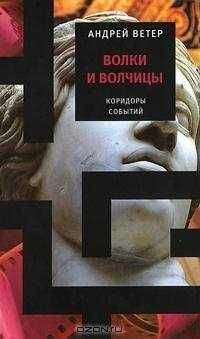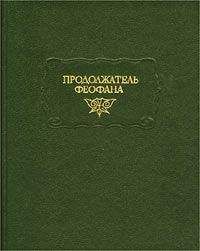Юрий Герман - Один год
- Разрешите, товарищ начальник, для пользы дела на темы, затронутые товарищем Занадворовым, не беседовать?
- Это как же? - воскликнул Занадворов.
- А так же, что в этой стадии разработки материалов я не могу допустить, чтобы папаша Невзоровых находился в курсе дела, - отрезал Лапшин и поднялся...
Лицо у него побурело, глаза смотрели холодно.
Баландин молчал долго, потом сильно крутанул на пальце пенсне и со вздохом произнес:
- Что ж, идите, товарищ Лапшин, работайте. Мы тут с товарищем Занадворовым разберемся помаленьку. Я ведь тоже в курсе дела... Закруглимся, тем более что и я временем ограничен! Вот таким путем!
Лапшин мягко закрыл за собою дверь, думая: "Ничего, Баландин - мужик, с таким не пропадешь!" И сочувственно вздохнул, представляя себе, на каком "градусе накала" Прокофий Петрович "закругляет" свою беседу с бешено самолюбивым Занадворовым...
Когда, обойдя всю бригаду и допросив кассира, сбежавшего из Пскова с чемоданом денег, Лапшин вернулся к себе в кабинет, Катька-Наполеон и актриса сидели рядом на диване и разговаривали с такой живостью и с таким интересом друг к другу, что Лапшину стало неловко за свое вторжение.
- Вот и начальничек! - сказала Катька. - Строгий человек!
Он сел за свои бумаги и начал разбирать их, и только порой до него доносился шепот Наполеона.
- Я сама мечтательница, фантазерка, - говорила она. - Я такая была всегда оригинальная, знаете...
Или:
- Первая любовь - самая страстная, и влюбилась я девочкой пятнадцати лет в одного, знаете, курчавенького музыканта, по фамилии Мускин. А он был лунатик, и как гепнулся с седьмого этажа, - и в пюре, на мелкие дребезги.
"Ну можно ли так врать?" - почти с ужасом думал Лапшин и вновь погружался в свои бумаги.
- А один еще был хрен, - доносилось до Лапшина, - так он в меня стрелял. Сам, знаете, макаронный мастер, но жутко страстный. Я рыдаю, а он еще бац, бац. И разбил пулями банку парижских духов. Какая была со мной истерика, не можете себе представить...
На негнущихся ногах, словно проглотив аршин, вошел строгий Павлик, положил перед Лапшиным конверт и сказал, что человек, который принес письмо, ждет внизу в бюро пропусков. Иван Михайлович аккуратно вскрыл конверт, развернул записку и улыбнулся. Бывший правонарушитель-рецидивист, ныне работающий токарем на Октябрьском заводе, приглашал Лапшина в гости по случаю "присвоения имени народившейся дочурке".
"Дорогой товарищ начальник! - было написано в письме. - Не побрезгуйте, зайдите. Имею я комнату, живу барином, хоть комната и небольшая, на четырнадцать метров с четвертью. Обстановочку я тоже завел приличную, приоделся на трудовые сбережения, и все от вас - от ваших горячих слов, когда вы меня ругали и направили не в тюрьме отсиживать, а дело делать и учиться, хоть и за решеткой, но на человека. И как я вас помню, товарищ начальник, сколько вы на меня потратили здоровья, и вашей крови, и, извиняюсь, нервов, то только тогда соображаю, что есть наша эпоха и какого в вашем лице я видел партийца-коммуниста, который до всего касается и ничего ему не постороннее. Прошу вас, товарищ начальник, если вы ко мне придете значит, и вы все перекрестили, т.е. забыли и кончили, и, значит, вы мне теперь доверяете и не боитесь обмарать ваше чистое имя моим знакомством. Прошу вас об этом исключительно, чтобы вы пришли не в форме, а в штатском двубортном костюме, - я вас в нем видел, когда вы сажали меня в последний раз на Песочной. Если гости увидят вас в форме, то могут чего про меня подумать нежелательное, а судимость с меня снята за мой героический труд, и паспорт у меня чистенький, как цветок, даже вы лично не заметите в нем ничего, как раньше были у меня некрасивые ксивы. И приходите с супругой или с кем желаете, а звать меня по-настоящему Евгений Алексеевич Сдобников, а не Шарманщик, не Женька-Головач и не Козел... Придет еще один ваш крестник, некто Хмелянский, если такого помните..."
Прочитав письмо, Лапшин позвонил в бюро пропусков и сказал Сдобникову укоризненно:
- Что ж ты, Евгений Алексеевич, в гости зовешь, а адреса не указываешь. Нехорошо.
- А придете? - спросил Сдобников по-прежнему картавя, и Лапшин вдруг вспомнил его живое, веселое лицо, сильные плечи и льняного цвета волосы.
- Я с одной знакомой к тебе приду, - сказал Лапшин. - Разрешаешь?
И он кивнул взглянувшей на него Балашовой.
- Наговорились? - спросил он, когда Наполеона увели. - Интересно?
- Потрясающе интересно, - с азартом сказала Балашова, - невероятно! Я к вам каждый день буду ходить, - с мольбой в голосе спросила она, - можно? Ну хоть не к вам лично, к вашим следователям. Мне это так все необходимо!
- Ну и ходите на здоровье! - улыбаясь, сказал Лапшин. - Вы мне не мешаете. Только ребят моих строго не судите - народ они толковый, честный, но культуры кое у кого недостает...
Посмеиваясь, он протянул ей полученное давеча письмо и, когда она прочитала, предложил пойти вместе.
- Но у меня спектакль! - со страхом в глазах сказала Катерина Васильевна. - Меня во втором действии расстреливают...
- Значит, в третьем вы уже не играете?
- Не играю.
- Ну и чудно! Я за вами заеду...
- Часов в десять, - сказала она, просияв. - Да? Я как раз буду готова.
Лапшин, скрипя сапогами, проводил ее до лестницы и крикнул вниз, чтобы выпустили без пропуска. Возвращаясь по коридору назад, он чувствовал себя совсем здоровым, словно и не было того проклятого припадка и мучительного дня потом, когда непрерывно трещал телефон и все спрашивали о здоровье, будто он и впрямь собирался помирать.
Плотно закрыв за собой дверь, Лапшин подвинул к себе бумаги и начал читать, подчеркивая толстым красным карандашом то, что казалось ему существенным. Так в тишине, сосредоточенно читая и раздумывая, он просидел часа два. Осторожно звякнул телефон, Иван Михайлович, продолжая читать, снял трубку и, прижав ее плечом к уху, сказал:
- Лапшин слушает.
Трубка молчала, но кто-то дышал там на другом конце провода.
- Слушаю! - повторил Иван Михайлович.
- Пистолет вам вернули? - спросил знакомый, чуть сипловатый голос.
- Ты моим пистолетом, Жмакин, чернильницу у дежурного разбил, произнес Лапшин.
- Дело небольшое.
- Большое или небольшое, а факт, что разбил. Пришел бы, Жмакин, а?
- Зачтете как явку с повинной и дадите полную катушку?
- Разберемся.
- Нет уж, гражданин начальничек, спасибо.
- Как знаешь.
- А здоровье ничего? На поправку?
- Получше маленько, - сказал Лапшин.
- Между прочим, откуда вы знаете, что именно я пистолет кинул дежурному?
- А кто еще мог это сделать? - спросил Иван Михайлович. - Кто мог сначала у меня, у потерявшего сознание человека, украсть оружие, а потом психануть и кинуть его в дежурку? Кто у нас такой удивительно нервный?
- Психологически подходите, - сказал Жмакин. - Я бы на вашем месте, гражданин начальник, хоть благодарность мне вынес. Попортил я тогда с вами крови.
- Я с вашим братом больше попортил, - невесело усмехнулся Лапшин.
- Значит, баш на баш?
- Нет, Жмакин, это ты оставь.
- Тогда приветик.
- Ну что ж, приветик так приветик. Только пришел бы лучше, все равно возьмем.
- Это видно будет, - сказал Жмакин злобно. - Покуда возьмете, я еще пошумлю маленько, подпорчу кое-кому настроение. А выше вышки все равно наказания нету.
В трубке щелкнуло. Лапшин сморщился, длинно вздохнул и велел себе больше не думать о Жмакине до времени, до того, когда думать понадобится. О неприятном разговоре с Занадворовым в кабинете начальника он тоже больше не вспоминал, шелуху и дрязги жизни он умел отсекать от себя напрочь, чтобы вздор не мешал работе. И работа спорилась нынче, и все было ловко ему и удобно: и перо, которым он писал, и кресло, и телефонная трубка, которую он прижимал к уху плечом, и погожий зимний день за огромным окном. И когда он по своему обыкновению каждый час или два обходил бригаду, всем было тоже ловко, удобно и приятно глядеть в его зоркие ярко-голубые глаза, слушать его гудящий бас и безусловно во всем всегда с радостью подчиняться ему - самому умному, самому взрослому, самому смелому из всех работающих в бригаде. А общее доверие к нему пробуждало в нем еще какие-то новые силы, придавало четкость мыслям, стройность схемам, которые он набрасывал, разрабатывая то или иное дело, направляя внимание не на частности, а на главное, на самое существенное в готовящейся крупной операции.
Товарищ Хмелянский
И все-таки надо было жить. Надо было где-то ночевать и не слишком мозолить глаза всяким Лапшиным, Бочковым, Окошкиным и Побужинским. Надо было с кем-то разговаривать и радоваться, что опять в этом огромном городе, и что никакие пути не заказаны, и что сам себе хозяин. Надо было непременно найти старых друзей, ведь не все же они сидят.
Жмакин разыскал Хмелю.
Хмеля жил на Старо-Невском, в доме, что выходит одной стеной на Полтавскую, и Жмакину пришлось излазить не одну лестницу, пока он нашел нужную квартиру. Он приехал днем, и, по его предположениям, Хмеля должен был быть дома; но Хмеля был на работе, и на его комнате висел маленький замочек. Пришлось приехать во второй раз вечером. Дверь из Хмелиной комнаты выходила в коридор, и матовое в мелких пупырышках дверное стекло теперь уютно светилось. Томные звуки гитары доносились из-за двери.