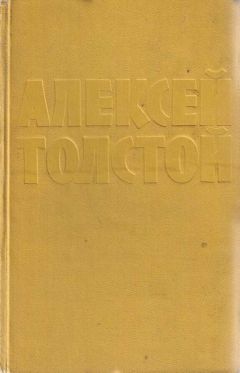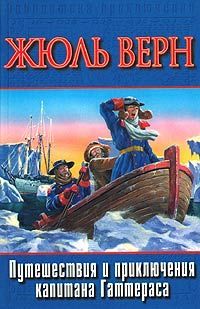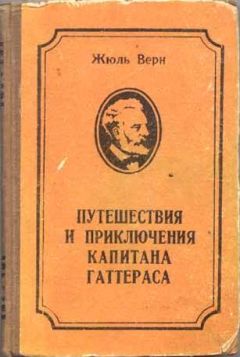Борис Зайцев - Золотой узор
Первое заседание совета было в очень теплый день, при сплошных лужах, в Политехническом музее. Маркел все это утро мог не быть на лекциях. Мне тоже захотелось посмотреть, я увязалась с ним.
Амфитеатр, раньше наполнявшийся студентами, курсистками, теперь кишел солдатскими шинелями. Среди них двадцать юнкеров, стайкою жавшихся на скамейке. Мы пробрались выше, в гущу самую.
Человек с бритым лицом, мясистыми губами, влажно-южными глазами и курчаво-черной шевелюрой открыл заседание. Поношенная гимнастерка округлялась у него на животе.
— Товарищи, первым у нас значится вопрос об отдании чести…
— Чего значится, довольно отдавали!
— Мало себе шеи наламывали?
Председатель зазвонил.
— Кто хочет говорить, прошу записываться.
Их оказалось множество. Вся та Россия, что держала на своих руках Империю, гибла в окопах, отмораживала ноги, пела хлесткие, победные, яко бы, песни, трепетала перед начальством и служила в деньщиках, вдруг пожелала говорить. Бесконечно вылезали на эстраду писаря и унтера, фронтовики и представители «гарнизона города Владимира»…
— То-ись, товаришшы, прямо скажу, я как выборный значит, сто девяносто третьего полку, то наши товаришшы никак больше не согласны, чтобы офицерам честь отдавать, как полагающие это ненужным во всяком разе…
— Пора, товарищи, — кричал злобный писарь с чахоточным лицом, — пора нам, наконец, опомниться, и осознать, что мы, как сознательный пролетариат…
Гарнизон Коломны поздравлял с революцией, и так же гарнизон Рязани, и все находили, что отдавать честь не приходится.
Так продолжалось часа полтора. Вдруг на эстраде появился тот широкобедренный военный земец в галифэ со стеком, что гарцовал со своим штабом на теперешних парадах. «Командующий будет говорить», пронеслось по рядам. «Командующий»…
Командующий влез на стол, чтоб лучше видели его ботфорты, и заговорил привычно, бодро, и достаточно толково. Разумеется, теперь свобода, и к солдату будут относиться не как к рабу, а как к гражданину. Рядом со мной рыжий, бородатый солдат встал, вышел в проход. Командующий на мгновенье остановился.
— Ваше благородие, — рявкнул бородач. — Господин командующий… — и вдруг всхлипнул. — Николи с нами еще так не говорили. Вот тебе, кланяюсь… дай тебе Бог удачи…
Опустился на колени, низко поклонился и заплакал.
— Ото всей, значит, солдатчины…
Да, командующий сорвал триумф. Безмолвная толпа загрохотала, руки потянулись и фуражки замелькали.
— Хорошо сказал! Гражданину!
— Это тебе не токма что.
— А чести всетаки не отдавать! Нипочем!
У многих тоже слезы были на глазах, многие вскочили, председатель едва успокоил. Главное, однако, было сказано. Остальное слушали покойнее. Командующий настаивал, что дисциплина требует отдания чести, так во всем мире заведено — и успеха не имел. Окончив, он просил подумать повнимательнее, сам же вышел. Но о чем тут думать? Подавляющие постановили — против чести. Мне безразлично было, отдают честь, или нет, и для Маркела даже проще бы не отдавать, но взглянула на скамейку наших юнкеров — такими показались мне затерянными в шинелях серых…
Часам к двум я устала и мне надоело дико. Но Маркел просил подождать — выборов президиума.
Я вышла в коридор и подошла к окну. Вокруг гудели те же серые шинели, бойкие девицы пробегали, часто слышался нерусский говор. У Ильинских ворот суматоха, торговали и меняли, грязь месили люди ловкие, торговые. Солнце мягко все ласкало. От Музея шагом ехал на караковом коне широкозадый командующий, с тремя спутниками. У ворот он тронул рысью, зад его слегка зашлепал по английскому седлу. Мне стало вдруг смешно. «Наверно, воображает, что похож на полководца!» Я ничего разумно не подумала, но непосредственно, спиной я ощутила, что шинелей — море, нас же кучка. «Чего захотят, то и будет».
Через полчаса Маркел разыскал меня.
— Ну, что, идем?
— Да, теперь кончилось… знаешь, случай вышел… право странно, а вот вышел…
И он рассказал мне, что от александровцев двое пошло в президиум, один тот, кого и намечали, другой Кухов. Кухова никто не проводил, а он прошел.
— Ты знаешь, да… он сам выбрал себя…, т. е. нет, выбрали-то его, но… сам предложил себя… без нас… подал записку со своей фамилией, поговорил там… с этой группою руководящей…
Я захохотала.
— И околпачил вас, голубчиков.
— Да, как тебе сказать… ужасно это странно, неудобно что-то вышло.
Мне не хотелось более смеяться. Да и говорить не стоило — то, что объегорили Маркела и ему подобных странным не было, гораздо было-б удивительней, если бы они надули. Э, безразлично. Все колеблется, Русь тронулась, что там загадывать, пока же — солнце, гам на улицах, у Никольской шары разноцветные, пролетки брызжут милой грязью мартовской, Маркел сейчас свободен, что же дальше — ах, посмотрим.
И пользуясь свободой, мы зашли в кафэ на Тверской, полу-артистическое, полу-цирковое: содержал его известный клоун, там бывали литераторы, маленькие актрисы, кинематографщики. Рисунки на стенах, мягкие красные диваны, дым, барышни в передничках, френчи и беженский язык, актерские физиономии. Сейчас все показалось как-то и развалистее, и распущенней. Еще недели две назад Маркел сюда не мог зайти.
По добросовестности, он пред первым же офицером вытянулся, просил разрешенья сесть. Тот даже улыбнулся — что вы, мол, теперь свобода, революция… И правда, заходили и солдаты, и матросы с голыми грудями в штанах раструбами, и молодые люди в гимнастерках – не поймешь, солдаты ли, или главнокомандующие. Мы наскоро хлебнули кофе, закусили пирожками и ушли. На Тверской лихачи летели, юноши в различных формах по трое на них сидели. Памятник Пушкина, как всегда, облеплен шинелями, мне все казалось это те же, что в Совете только что ораторствовали.
Мальчишки сновали, и трамваи ползли переполненные. По Тверскому гологрудые матросы, сытые и бритые, гуляли с девушками, и непрерывно шли с котомками солдаты — все к вокзалам, все домой, все «в отпуска».
Дома Маркел умылся, снял военщину и надел штатское.
— А все же… не по мне вся кутерьма такая… эх скорее бы война кончилась… можно-б заниматься… я три месяца книги в руках не держал.
Вздохнув, взял с полки шахматы, разложил, и погрузился в созерцание фигур и положений. Опять я улыбнулась. Где тут революции, ему бы в кабинете сидеть, над разложениями атомов, или читать Апокалипсис, а тут «мир без аннексий и контрибуций».
Положим, юнкером ему недолго оставалось уж пробыть. На Пасхе же, на отпуск двухнедельный, собрались мы в деревню.
Дни марта проходили быстро. Юнкеров водили на Воздвиженку заказывать обмундировку, и последнюю неделю ничего они не делали — Маркел валялся у себя на койке и читал, из магазина приносили новые фуражки, шашки, френчи, галифэ, а на дворе весна трепала мокрым ветром оголенные деревья, солнце перламутрово ласкало.
Настал, Наконец, вечер, когда к дому нашему подкатил довольно элегантный, бородатый офицер в новенькой фуражке и шинели, с шашкою, его стеснявшей, с серым сундучком походным. В общем был похож слегка на околодочного. Мы с Андрюшей встретили его с цветами. И Марфуша кинулась восторженно, снимать шинель.
— Уж барин наш, уж барин… — бормотала потом в кухне. — Пря-ямо!...
Вероятно, этим выражала меру восхищения перед великолепием Маркела. А Маркел, если и великолепным не был, все же вид имел как будто вымытый и принаряженный, и когда я ходила с ним по магазинам, закупать икры и табаку в Галкино, то терерь пред ним стайками взлетали юнкера, отдавали честь, из-за которой было столько споров. А солдаты сторонились, многие привычно козыряли, но иные чувствовали себя уж прочно, висли на трамваях и лущили семечки по бульварам, набивались кучами в кинематографы. Видно было — начинается их царство.
Мы особенно почувствовали это на вокзале — сплошь запруженном шинелями. Ехали, всетаки, во втором классе, и сидели. Но в вагоне только речь о том и шла, кто из помещиков уехал, у кого землю отняли, а кого просто выгнали.
Помещицей я не была, к земле я равнодушна, но отец… уж стар, и за него мне непокойно.
Потянулись милые поля, стада, свежие березняки, речки разливные, бледная шерстка зеленей, небо весеннее, с повисшим снопом света над шершавой деревушкой — и захотелось просто воздуха, подснежников, дроздов, мглы, нежности апреля.
V
Весна выдалась теплая, с мягкими дождями, грязью радостной, и шумом вод. Водою снесло мост у мельницы. Священник наш заночевал за речкой. Мы с Любою, Маркелом и Андрюшей ходили смотреть на разлив. Дорогой много хохотали: ноги топли, мы скользили, чуть не плыли по разползшейся, тусклой землице.
В разливе есть и веселое, как и в пожаре. Славно гудят воды в развороченном мосту, гнется лозняк, несутся талые обломки льда. У шоссе рухнувшего наши мужики: Федор Матвеич, Яшка, староста Хряк. Яшка, молодой, издерганный и искривленный, бледный, более похожий на мастерового, длинно сплюнул, цыкнул и перетряхнулся.