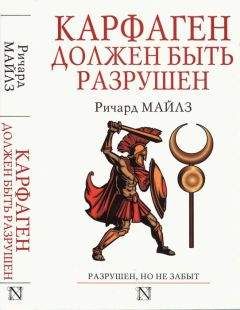Александр Эртель - Волхонская барышня
XV
Облепищеву привезли с почты письмо, получив которое он поморщился точно от боли. Письмо было от графини. «Правда, я привыкла к вашей неаккуратности, граф, — писала она по-французски почерком тонким и четким как бисер, — но я рассчитывала на исключение. Отчего вы не пишете мне: понравилась ли Варя Пьеру, и сделал ли он ей предложение. Не забывайте, что от этого брака зависит наше состояние. Лукиан Трифонович соглашается погасить наши закладные, если Pierre женится на вашей кузине. Вы, конечно, помните, как много вы содействовали возникновению этих закладных, и потому поймете, что честь обязывает вас сделать в настоящем случае. Если предложение состоится и будет принято — телеграфируйте мне так: курсы повысились…» Дальше шло неинтересное перечисление светских новостей.
Но граф и не читал дальше. Он бросил письмо и страдальчески улыбнулся. И долго сидел в глубокой неподвижности. Маленькие золотые часики с веселой торопливостью тикали на столе. Бесчисленные баночки и флаконы значительно молчали, точно поверженные в раздумье. Бетховен в громаднейшем жабо меланхолически смотрел в пространство. Вокруг фотографии спящего Моцарта витали фантастические призраки… Мишель все сидел, потупя голову.
— Ничтожность, женщина, твое название! — наконец с горечью вымолвил он и подошел к зеркалу, внимательно посмотрел на выражение своего лица. Оно было мрачно и задумчиво. Тогда он, увлекаясь, стал в позу и картинно произнес словами Гамлета: «Быть или не быть!» — и как бы внезапно воспламененный внутренним жаром, продолжал патетически:
…Вот в чем вопрос!
Что благородней? Сносить ли гром и стрелы
Враждующей судьбы, или восстать
На море бед и кончить их борьбою?
Окончить жизнь, — уснуть,
Не более! — И знать, что этот сон
Окончит грусть и тысячи ударов,
Удел живых… Такой конец достоин
Желаний жарких!.. —
и с унылой решимостью добавил:
Умереть — уснуть!
Но после многозначительной паузы он поднял голову и, подражая Сальвини, которого видел в Милане, прошептал в тяжком недоумении:
Уснуть? — Но если…
И вдруг взгляд его упал на письмо графини. «Однако, черт возьми, нужно что-нибудь предпринимать!» — произнес он с озабоченным видом и потер лоб. Но в голову ничего не лезло. Он только вспомнил видимое равнодушие Вари к Лукавину, и что-то вроде удовольствия шевельнулось в нем. Но тотчас же он и упрекнул себя. «Боже, какой я эгоист!» — подумал он, припоминая свое сближение с кузиной, свои беспрестанные tкte-á-tкte[18] с нею; но тут же прибавил в виде извинения: «Но она такая пикантная!» И он вообразил ее в сверкающей диадеме, в бриллиантах и кружевах, среди бесчисленных огней и блистательных пар, грациозно скользящих под звуки упоительно ноющего смычка… Вообразил ее на Невском в четыре часа, в облаках сияющего снега, взбитого копытами драгоценных рысаков, в соболях и тысячной ротонде… «Да, это ее сфера! — сказал он. Но упрямо отказывался представлять Пьера в качестве мужа Вари. — Это не муж, а просто аппетитная ассигновка!» — вырвалось у него в порыве презрительной досады.
И он опять взялся за письмо. Внизу неинтересных новостей стоял postscriptum: «Дядю, я думаю, можно посвятить в наш проект: он настолько благоразумный человек, что поймет все выгоды этого брака. Но не забывай, что Pierre ничего не знает. Лукиан Трифонович говорит, что он Pierr'у писал «обиняком», — я, впрочем, не понимаю этого слова».
Облепищева точно откровение осенило. Он с веселым видом оделся и позвонил.
— Доложите Алексею Борисовичу, что мне нужно говорить с ним, — приказал он своему лакею, элегантному парню с лицом из папье-маше и с pince-nez на борту фрака.
Волхонский с интересом ожидал графа в своем кабинете. Он никак не мог придумать, на что тому потребовалось это рандеву. «Уж не денег ли нужно, — предполагал он, — дела их, кажется, весьма неважны, а сегодня сестра ему писала», — и решил дать, но не более тысячи рублей. Но когда Мишель вошел и в коротких словах сообщил ему «мечтания maman, о которых она просила передать», Алексей Борисович приятно изумился. Он, правда, не показал своей радости и даже промолвил с небрежением:
— Но, мой милый, ведь они же костромские мужики!
Но когда Мишель стал доказывать ему, что, во-первых, — они не мужики, а Лукьян Трифоныч такое же «его превосходительство», как и воронежский губернатор, и что вообще при лукавинском многомиллионном состоянии эти устарелые толки о породе, по меньшей мере, не тактичны, — Волхонский внимал этим доказательствам с любовной готовностью.
— Но как Петр Лукьяныч? — спросил он.
— О, Pierre, несмотря на эту свою положительность, спит и видит себя в родстве с нами, — сказал граф.
— Да… — в задумчивости произнес Алексей Борисович, — и, кажется, это дело с заводом ему по душе… Но ты поговори с ним, мой милый! — добавил он и, когда граф вышел, так и расплылся в пленительных мечтах. В его воображении вставала галерея картин на манер Боткинской в Москве, о которой он вздыхал как еврей о земле обетованной (Третьяковская не удовлетворяла его европейским вкусам). Он представлял себе обширную залу в два света, всю сплошь увешанную произведениями Мейссонье, Белькура, Коллера, Макарта, Виллемса, Коро, Фортуни… Затем мысли его уносились дальше. В Волхонку собирались туристы, художники, музыканты, литераторы. Все они находили приют в отеле, изящно и характерно отделанном в особом, «волхонском» стиле. Все они собирались вокруг Алексея Борисовича и устраивали пикники, беседы, parties de plaisir[19],— литераторы читали свои произведения, музыканты играли, художники рисовали в альбомах; скульпторы и те лепили маленькие статуэтки и оставляли их на память хозяину… И все с внимательнейшей чуткостью прислушивались к тонким замечаниям Алексея Борисовича и благоговейно поникали перед ним. Иногда в этом кружке появлялась Варя. Она вносила с собой пикантное и восторженное настроение. Изящная, великолепная, обворожительная, она повсюду зажигала сердца. Поэты слагали ей сонеты, фельетонисты описывали ее костюмы, художники писали с нее картины, музыканты посвящали ей серенады и вальсы…
Граф застал Лукавина за чтением газетных объявлений.
— Как тебе не стыдно! — воскликнул он.
— Чего стыдиться-то? — с недоумением произнес Петр Лукьяныч.
— Да кто же читает объявления?
— А что же, по-вашему, читать? (Несмотря на то, что Облепищев давно уж говорил ему ты, он все еще не решался следовать его примеру.)
— Ну, передовую статью, фельетон, хронику.
Лукавин тряхнул волосами.
— Что до хроники — я ее прочел, — сказал он. — А передовые статьи да фельетоны — неподходящее дело, Михайло Ираклич!
— Как неподходящее?
— Да так-с… Положительности от них никакой нет. В объявлении я что вижу: ежели продается карета, так уж она продается, сдается квартира по случаю — так сдается… А теперь вы возьмите фельетон ваш: вон какой-то барин за женский вопрос распинается. Ну и распинайся он до скончания веков, а все-таки по его не сделается. Так и в передовой статье: джут! джут!.. Джут, точно, дело интересное, да решит-то его господин министр финансов. Скажите же на милость, зачем я буду читать ее, эту передовую статью!
— Ну, логика, — усмехаясь, сказал Облепищев. — Как это ты с такой-то логикой да не женился до сих пор!
— И женюсь, — шутливо ответил Лукавин, — вот погодите: найду девицу, чтобы восемь пудов тянула, и сочетаюсь.
— И миллион приданого?
— Ну — миллион! С одним весом возьмем.
— Почтенный идеал, — насмешливо сказал граф и вдруг игриво ткнул Петра Лукьяныча в живот, — ведь балаганничаешь все, Пьерка, — воскликнул он, — смотри, не к туше пламенеет твое сердце, а к моей кузине!
Лукавин ухмыльнулся.
— Барышня важная, — вымолвил он, — не для нас только.
— Да ты бы приволокнулся?
Но Петр Лукьяныч даже несколько рассердился.
— Что городить! — сказал он. — Варвара Алексеевна принца ожидает.
— Напрасно ты, — совершенно серьезно возразил Облепищев, — я, по крайней мере, думаю, что ты ей очень нравишься.
— А разве она что-нибудь говорила? — живо отозвался Лукавин.
Облепищев засмеялся.
— Сказалось сердечко! — пошутил он (внутри же себя подумал: «Какой я, однако, пошляк!»).
— Вот что, Михайло Ираклич, — решительно произнес Петр Лукьяныч, придвигаясь к графу, — будем говорить прямо: барышня мне больно по душе. Приданого мы не токмо с Алексея Борисыча — ему сахарный завод выстроим. Дело для нас пустяковое. И папаша не прочь. А с тобой (графа кольнула эта неожиданная фамильярность), с тобой мы сделаемся по-дружески: ежели понадобится кредитец на парижского Ротшильда, мы это и без папаши устроим.