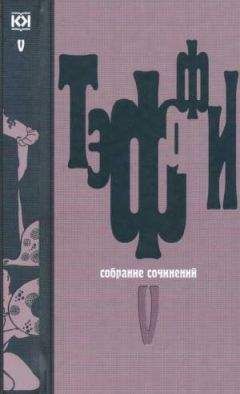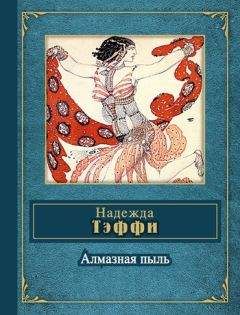Надежда Лохвицкая - Ностальгия. Рассказы. Воспоминания
Короткие арфы в руках у жриц Ассирии, у египтянок…
«Начальнику хора. На струнных орудиях. На осьмиструнном. Псалом Давида…»
Потом лиры, лютни и, наконец, гитара. Пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый века — все звенит, все поет и плачет гитарными струнами. Миннезингеры, менестрели, бродячие поэты-музыканты разносят в песнях чары любви и колдовство черной книги «Гримуара». И вся поэзия средневековой жизни идет в сердца через струны.
В дни самого мрачного средневековья, когда тихие затворники, пряча мысль свою, как тайную лампаду в темных кельях монастырей, в исступленных муках души искали великий разум у жизни и за эту муку свою сгорали на кострах инквизиции, — тогда о радостях земли знали только песни, и несли их певцы-поэты с гитарами в руках.
В России гитара была хороша только у цыган. Русский человек относился к ней, как к балалайке: уныло подбирал лады и тренькал:
Выйду ль я на реченьку…
Цыгане «мотивчика» не тренькают. Они умеют перебирать струны говорком, давать вспышки, вскрики и сразу гасить бурный аккорд ласковой, но властной ладонью.
У каждого своя манера дотронуться до струны. И каждому она отвечает иначе. И у нее бывают свои настроения, и не всегда одинаково отзовется она даже на привычное ей касание.
«Более сырой, более сухой воздух», — скажут мне.
Может быть. Но разве наши собственные настроения не зависят в большой мере от «сухости» окружающей среды?
Старая, пожелтевшая гитара, с декой тонкой и звонкой, — сколько в ней накоплено звуков, сколько эманации от песенно касавшихся пальцев; такая гитара — дотроньтесь до нее! — сама поет, и всегда в ней найдется струна, настроенная созвучно какой-то вашей струне, которая ответит странным физическим тоскливо-страстным ощущением в груди, в том месте, где древние предполагали душу…
* * *Я не могла отдать свою гитару щучьей девице для увеселения «больного элемента».
20
Утром ко мне зашел Смольянинов. Он был чем-то вроде администратора на нашем корабле. В прошлой своей жизни — как будто сотрудником «Нового времени». В точности не знаю.
— Знаете, — сказал он мне, — кое-кто из пассажиров выражает неудовольствие, что вы вчера рыбу не чистили. Говорят, что вы на привилегированном положении и не желаете работать. Нужно, чтоб вы как-нибудь проявили свою готовность.
— Ну что ж, я готова проявить готовность.
— Прямо не знаю, что для вас придумать… Не палубу же вас заставить мыть.
— А-ах!
Мыть палубу! Розовая мечта моей молодости!
Еще в детстве видела я, как матрос лил воду из большого шланга, а другой тер палубу жесткой, косо срезанной щеткой на длинной палке. Мне подумалось тогда, что веселее ничего быть не может. С тех пор я узнала, что есть многое повеселее, но эти быстрые крепкие брызги бьющей по белым доскам струи, твердая, невиданная щетка, бодрая деловитость матросов — тот, кто тер щеткой, приговаривал: «гэп! гэп!» — осталось чудесной, радостной картиной в долгой памяти.
Вот стояла я голубоглазой девочкой с белокурыми косичками, смотрела благоговейно на эту морскую игру и завидовала, что никогда в жизни не даст мне судьба этой радости.
Но добрая судьба пожалела бедную девочку. Долго томила ее на свете, однако желания ее не забыла. Устроила войну, революцию, перевернула все вверх дном и вот наконец нашла возможность — сует в руки косую щетку и гонит на палубу.
Наконец-то! Спасибо, милая!
— А скажите, — обращаюсь я к Смольянинову, — у них есть такая косая щетка? И воду будут лить из шланга?
— Как? — удивляется Смольянинов. — Вы согласны мыть палубу?
— Ну конечно! Ради бога, только не передумайте. Бежим скорее…
— Да вы хоть переоденьтесь.
Переодеваться-то было не во что.
Вообще на «Шилке» носили то, что не жалко, сохраняя платье для берега, так как знали, что купить уже будет негде. Поэтому носили то, в чем в ближайшие дни никакой надобности не предвиделось: какие-то пестрые шали, бальные платья, атласные туфли.
На мне были серебряные башмаки… Все равно в них по городу не пойдешь квартиру искать…
Поднялись наверх.
Смольянинов пошел, распорядился. Юнга притащил щетку, притянул шланг. Брызнула веселая вода на серебряные башмаки.
— Да вы только так… для виду, — шептал мне Смольянинов. — Только несколько минут.
— Гэп-гэп, — приговаривала я.
Юнга смотрел с испугом и состраданием.
— Разрешите мне вас заменить!
— Гэп-гэп, — отвечала я. — Каждому свое. Вы, наверное, грузили уголь, а я должна мыть палубу. Да-с. Каждому свое, молодой человек. Работаю и горжусь приносимой пользой.
— Да вы устанете! — сказал еще кто-то. — Позвольте, я за вас.
«Завидуют, подлые души!» — думала я, вспоминая мои далекие мечты. Еще бы, каждому хочется.
— Надежда Александровна! Вы и в самом деле переутомились, — говорит Смольянинов. — Теперь будет работать другая смена.
И прибавил вполголоса:
— Очень уж вы скверно моете.
Скверно? А я думала, что именно так, как матросик моего далекого детства.
— И потом, уж очень у вас довольное лицо, — шепчет Смольянинов. — Могут подумать, что это не работа, а игра.
Пришлось отдать щетку.
Обиженная, пошла вниз. Проходя мимо группы из трех незнакомых дам, услышала свое имя.
— Да, да, она, говорят, едет на нашем пароходе.
— Да что вы!
— Я вам говорю — Тэффи едет. Ну конечно, не так, как мы с вами: отдельная каюта, отдельный стол, и работать не желает.
Я грустно покачала головой.
— Ах, как вы несправедливы! — сказала я с укором. — Я собственными глазами только что видела, как она моет палубу.
— Ее заставили мыть палубу? — воскликнула одна из дам. — Ну, это уж чересчур!
— И вы видели ее?
— Видела, видела.
— Ну и что? Как?
— Такая длинная, истощенная, цыганского типа, в красных сапогах.
— Да что вы!
— А нам никто ничего и не сказал!
— Это же, наверно, очень тяжелая работа?
— Ну, еще бы, — отвечала я. — Это вам не рыбу ножичком гладить.
— Так зачем же она так?
— Хочет показать пример другим.
— И никто нам ни слова не сказал!
— А скажите, когда она еще будет мыть? Мы хотим посмотреть.
— Не знаю. Говорят, на завтра она записалась в кочегарку. Впрочем, может быть, это вранье.
— Ну, это уже было бы совсем чересчур, — пожалела меня одна из дам.
— Ну что ж, — успокоила ее другая. — Писатель должен многое испытать. Максим Горький в молодости нарочно пошел в булочники.
— Так ведь он в молодости-то еще не был писателем, — заметила собеседница.
— Ну, значит, чувствовал, что будет. Иначе зачем бы ему было идти в булочники?
* * *Поздно вечером, когда я сидела одна в нашей каюте-ванной, кто-то тихо постучал в дверь.
— Можно?
— Можно.
Вошел неизвестный мне человек в военной форме. Окинул взглядом каюту.
— Вы одна? Вот и отлично.
И, обернувшись, позвал:
— Войдите, господа. Посторонних нет.
Вошли три-четыре человека. Между ними инженер О.
— В чем же дело? — спросил О. — О чем вы хотели говорить?
— Дело очень важно, — зашептал тот, который вошел первым, — нас обманывают. Нам говорят, что мы идем в Севастополь, а между тем капитан держит курс на Румынию. Там он выдаст нас большевикам.
— Что за бред? Почему в Румынии большевики?
— Бред ли это — вы узнаете слишком поздно. Во всяком случае, «Шилка» держит курс на Румынию.
Нам остается сделать одно: сегодня же ночью идти к капитану, уличить его и передать командование лейтенанту Ф. Этому человеку мы можем верить.
Я его хорошо знаю, и, кроме того, он родственник одного очень известного общественного деятеля.
Итак, решайте немедленно.
Все молчали.
— Знаете что, господа, — сказала я. — Все это не проверено и очень неясно. И почему нельзя днем спросить попросту у капитана, отчего мы не держим курс на Севастополь? А врываться к нему ночью — ведь это прямой бунт.
— Ах, вот вы как! — сказал коновод и зловеще замолчал.
В полутемной каютке шепчемся, как черные заговорщики. Над головами громыхает рулевая цепь: это предатель маленький капитан заворачивает к Румынии. Прямо страничка из авантюрного романа.
— Да, — согласился инженер О. — Мы лучше завтра расспросим.
И коновод неожиданно согласился:
— Да, пожалуй. Может быть, так даже будет лучше.
Утром О. сказал мне, что говорил с капитаном, и тот очень охотно и просто объяснил, что держал такой курс потому, что надо было обойти минные поля.
Вот удивился бы бедный капитан, если бы мы вползли к нему ночью с кинжалами в зубах…
Я видела потом лейтенанта Ф. Унылый длинный неврастеник, он, кажется, даже и не знал, что его собирались провозгласить диктатором. А может быть, и знал… Он в Севастополе оставил «Шилку».