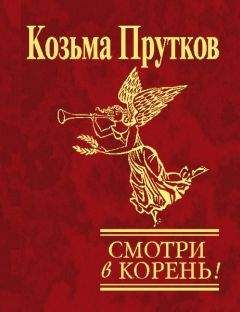Семен Подъячев - Мытарства
Мнѣ было невыносимо тяжело съ непривычки сознавать себя частью этой толпы. Мнѣ было стыдно, какъ будто я сдѣлалъ, въ самомъ дѣлѣ, что-нибудь постыдное, въ родѣ грабежа или кражи. Казалось, что всѣ прохожіе глядятъ на меня, какъ на вора или душегуба…
Къ вокзалу насъ провели сквозь какія-то ворота, какими-то задворками и остановили около арестантскихъ вагоновъ, съ маленькими, подъ самой крышей оконцами, задѣланными желѣзными рѣшетками.
Здѣсь, около вагоновъ, произошла продолжительная остановка. Какіе-то люди, высокая тучная женщина и двое мужчинъ, поджидали партію, стоя около корзинъ, наполненныхъ бѣлыми хлѣбами, калачами, баранками и пр. Насъ построили въ ряды, человѣкъ по пятнадцати въ каждомъ, и женщина съ двумя мужчинами торопливо начала одѣлять «подаяніемъ»…
Арестанты, волнуясь и спѣша, хватали, почти рвали изъ рукъ у нихъ это подаяніе. Кто пряталъ его за пазуху, а кто сейчасъ же съ голодной жадностью принимался пожирать, торопливо глотая и озираясь на другихъ.
Помню, — мнѣ достался бѣлый французскій хлѣбъ и штукъ пять большихъ баранокъ. Хлѣбъ я спряталъ, а баранки сейчасъ же съѣлъ, отламывая и глотая отъ нихъ по кусочку, съ чувствомъ какого-то невыразимо-остраго наслажденія. Смѣшно сказать, но я чувствовалъ, какъ какая-то странная, тихая радость загоралась въ моемъ сердцѣ, по мѣрѣ того, какъ я, кусокъ за кускомъ, наполнялъ свой тощій желудокъ этими вкусными, давно невиданными баранками. Погруженный въ это наслажденіе, я не обращалъ вниманія, что дѣлалось вокругъ, позабылъ, что я арестантъ и что меня сейчасъ загонятъ, какъ скотину, въ грязный вагонъ и повезутъ куда-то, не обращая вниманія на то, хочу я этого или нѣтъ.
Крикъ конвойнаго вывелъ меня изъ этого пріятнаго забытья.
Конвойный начальникъ кричалъ, ругаясь гадкими словами, чтобы мы не толкались зря, а входили въ вагоны по порядку.
Волнуясь и спѣша, какъ одурѣлые, полѣзли мы въ вагоны, торопясь поскорѣе занять мѣсто.
Въ вагонѣ, около дверей, съ обѣихъ сторонъ, было по солдату. Солдаты эти равнодушно глядѣли на нашу толкотню, какъ на привычное и надоѣвшее имъ зрѣлище…
Когда, наконецъ, вагонъ, въ который попалъ я, переполнился людьми такъ, что негдѣ стало повернуться, двери заперли, и между арестантами пошелъ, какъ говорится, дымъ коромысломъ…
Конвойные солдаты мѣняли наше подаяніе на табакъ. За двѣ французскихъ булки можно было получить что-то около восьмушки махорки.
Скоро весь вагонъ переполнился табачнымъ дымомъ. Сдѣлалось жарко и невыносимо душно. Крикъ, шумъ, пѣсни, ругательства, хохотъ, неслись со всѣхъ сторонъ. Лица людей, красныя, потныя, возбужденныя, мелькали передъ глазами…
Когда, наконецъ, послѣ третьяго звонка, поѣздъ тронулся, я перекрестился и сказалъ:
— Слава Тебѣ Господи, наконецъ-то!… Точно гора какая-то свалилась съ плечъ…
— Братцы! — закричалъ на весь вагонъ высокій съ блестящими глазами арестантъ. — Увозятъ!… Прощай, Питеръ!… Го, го, го!… до свиданья!… Увидимся скоро… Кому булку за табакъ, а?! Эй!… кому булку!… Булку, булку, булку!..
XVIII
Поѣздъ сталъ замедлять ходъ, подходя къ станціи. Старшій конвойный солдатъ, заспанный и злой, щуря глаза, снова вошелъ въ нашъ вагонъ и опять крикнулъ:
— Петровъ! Крысинъ! Готовьтесь, слѣзать вамъ!
Я поднялся съ мѣста и всталъ. Крысинъ, старикъ съ длинной сѣдой бородой, о которомъ я говорилъ вначалѣ, не тронулся… Онъ остался сидѣть въ прежней позѣ.
— Крысинъ! — заоралъ конвойный, — не тебѣ, что ли, говорятъ-то, собака!… Не слышишь, что ли?!
— Слышу! — отозвался старикъ глухимъ голосомъ.
— Чего-жъ ты не встаешь?..
— Встану, когда надо.
— Ахъ ты, собака, сволочь!… - еще шибче заоралъ конвойный и со злобой ударилъ его ногой по спинѣ.
Старикъ повернулъ къ нему лицо и тихо, но какъ-то особенно внушительно сказалъ:
— Ударь еще… Покажи свою власть надо мной, старикомъ… Эхъ, ты!… аль у тебя отца не было?.. Стыдно, братъ!..
— Ну, ну, помалкивай! — гораздо тише и мягче сказалъ конвойный, — мнѣ тутъ съ тобой некогда бобы-то разводить. Васъ, чертей, вонъ сколько… Обозлишься съ вами. Народъ-то вы больно хорошій… Прозѣвай, голову сорвете!..
— Народъ вездѣ одинъ, — сказалъ старикъ, тяжело поднимаясь съ полу, — что ты, что я, одно дерьмо-то… А за грѣхи мои я самъ передъ Господомъ отвѣтъ дамъ, не тебѣ судить… Всѣ мы люди… Ноне я арестантъ, а завтра ты имъ будешь… Такъ то, другъ!… «Многая у Господа милость и многое у него избавленіе и той избавитъ Израиля отъ всѣхъ беззаконій его!..» Ну вотъ, землячокъ, мы съ тобой и пріѣхали, — добавилъ онъ, обращаясь ко мнѣ. — Сейчасъ насъ опять въ тюрьму поволокутъ… О-хо-хо!… Ну, слѣзать, что ли?..
— Сейчасъ! — отвѣтилъ конвойный. — Не торопись.
Поѣздъ остановился. Мы вышли изъ вагона и спустились по ступенькамъ не на платформу, а прямо на землю… Налѣво, на вокзалѣ мелькали огни, бѣгали люди, шла обычная въ такихъ случаяхъ суета… Здѣсь же, гдѣ высадили насъ, было тихо, только холодный, пронзительный вѣтеръ жалобнымъ воемъ, крутя снѣгъ, точно плача, встрѣтилъ насъ, да трое дожидавшихся конвойныхъ солдатъ, обругавъ насъ скверными словами и не давъ опомниться, повели въ тюрьму.
Было поздно, городъ спалъ, луны не было видно за облаками, но свѣтъ ея, холодный и мертвый, тихо лился на спящій городъ, придавая всему чрезвычайно тоскливый видъ… Печально и грустно глядѣли темные домишки; въ пустыхъ улицахъ гулялъ вѣтеръ, наметая сугробы снѣга… гдѣ-то вдали жалобно выла собака, гдѣ-то пропѣлъ пѣтухъ…
Я шелъ, скорчившись въ своемъ лѣтнемъ пальто. Мнѣ было страшно холодно, и тихая, щемящая грусть заползала въ душу… Шедшій сбоку, по правую отъ меня руку, старикъ тоже жался отъ холода, безпрестанно спотыкался и фыркалъ носомъ, точно плакалъ.
Высокій, плотный солдатъ, должно быть, старшій, шедшій впереди, всю дорогу ругалъ насъ отвратительными словами. Я слушалъ его ругательства и сознавалъ, что «лаетъ» онъ насъ за дѣло.
— Покою отъ васъ, дьяволовъ, нѣтъ, — говорилъ онъ, — нѣтъ того разу, чтобы кого да не пригнали… И чего васъ чортъ въ Питеръ носитъ?.. Зачѣмъ?.. Вотъ завтра тащись съ вами за 60 верстъ, по эдакой-то погодѣ. Хорошій хозяинъ собаки не выгонитъ… Чортъ васъ задави!… тьфу! жись собачья, хуже арестантской!..
Шли мы долго. Отъ вокзала до тюрьмы было не близко. По приходѣ насъ не сразу впустили: старшій солдатъ долго дергалъ за звонокъ и ругался, прежде чѣмъ отперли.
— Опять есть? — спросилъ кто-то, отворивъ дверь.
— А когда ихъ не было-то, дьяволовъ? — отвѣтилъ солдатъ.
— Тьфу! — громко плюнулъ кто-то, — окаянная сила! И откуда берутся? Точно, прости Господи, вшей на гашникѣ… Покою нѣтъ!… Ночь полночь — канителься!… Проходи скорѣй!… Да ну, вшивые черти, поворачивайся! Дамъ вотъ по шеѣ,- до новыхъ крестинъ не забудешь!.. — Проведя тюремнымъ дворомъ, насъ ввели въ какую-то полутемную, затхлую комнату. Съ деревянной скамьи поднялся высокій, шаршавый человѣкъ. Зѣвая, онъ принялъ отъ солдата бумаги и, окинувъ насъ заспанными глазами, сказалъ:
— Дьяволы!..
Послѣ этого привѣтствія онъ лѣниво ощупалъ насъ и повелъ по лѣстницѣ наверхъ. Наверху, тамъ, гдѣ кончалась лѣстница и начинался корридоръ направо и налѣво, полутемный, съ обычнымъ отвратительнымъ «острожнымъ» запахомъ, сидѣлъ на табуреткѣ дежурный и клевалъ носомъ.
— Кузьма! — окрикнулъ его приведшій насъ человѣкъ, — проснись!… Сваты пріѣхали…
Кузьма поднялся съ табуретки, оглянулъ насъ и спросилъ:
— Погода знать на дворѣ-то, а?
— Стрась! — отвѣтилъ приведшій насъ и добавилъ: — А ихъ вотъ чортъ носитъ!
— Н-нда, дѣло казенное, — проговорилъ дежурный и, поглядѣвъ на насъ сонными глазами, добавилъ: — Ну, соколы, пожалуйте!..
Онъ повелъ насъ по корридору направо и остановился передъ небольшой, грязной дверью съ отверстіемъ посрединѣ. Сквозь эту дырку шелъ слабый свѣтъ изнутри. Гремя засовомъ, солдатъ, не торопясь, отперъ дверь и сказалъ, распахнувъ ее:
— Пожалуйте! для васъ покойчикъ!..
И, пропустивъ насъ, громко захлопнулъ дверь, заперъ ее опять и ушелъ, скребя по полу корридора сапогами, на свое мѣсто, къ лѣстницѣ, на табуретку.
XIX
«Покойчикъ», въ которомъ мы очутились, была узкая, загаженная, съ однимъ окномъ, вонючая каморка. Почти половину этой каморки занимала голая досчатая койка, на которой, подложивъ подъ голову руки, лежалъ какой-то въ изодранномъ, грязномъ бѣльѣ рыжій человѣкъ и, глядя на насъ, ядовито усмѣхался.
Около койки стоялъ столикъ, на немъ жестяная, съ закоптѣлымъ, разбитымъ до половины стекломъ, лампочка… Въ углу, около порога, стояла неизбѣжная «парашка».
Войдя, я бросилъ свой арестантскій блинъ-шапку на столъ и сѣлъ на полу въ уголъ… Старикъ постоялъ немного посреди каморки, о чемъ-то думая, и тоже сѣлъ рядомъ со мною, принявъ почти такую же, какъ давеча въ вагонѣ, задумчивую позу.