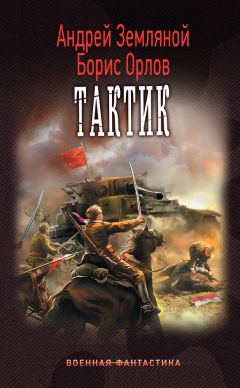Борис Поюровский - Былое без дум
Александру Володину, проживающему по адресу: город Ленинград, Рубинштейна, 20, кв. 31 (бывш.13), посвящается:
Жил автор безыдейный
на улице Рубинштейна.
Сел он утром на кровать,
начал пьесу сочинять,
взял перо он в обе руки,
написал четыре штуки!
Про советское пальто
написал совсем не то.
Стал описывать гамаши,
говорят ему: не наши.
Вот какой рассеянный
автор безыдейный...
Вместо домны на ходу
он воспел сковороду.
Вот какой рассеянный
автор безыдейный.
Однажды на трамвае
он ехал на вокзал.
И критик, поучая,
один ему сказал:
"Глубокоуважаемый
идеезаражатый,
не раз предупреждаемый
и все же недожатый,
во что бы то ни стало
должны вы воспевать.
Учтите, очень скоро
вам могут указать".
Володин разозлился,
но чудом сохранился.
Вот какой рассеянный
автор безыдейный.
В министерство на прием
он отправился бегом.
Взял сценарии и планы,
рассовал их под диваны.
Сел в углу перед окном
и уснул спокойным сном.
"Кто так громко выступает?"
он спросил, слегка зевая.
А с трибуны говорят:
"Это вас опять громят".
Он опять поспал немножко
и опять взглянул в окошко.
А когда открыл глаза,
увидал огромный зал.
"Это что за остановка
ВТО или Петровка?"
А с трибуны говорят:
"Это вас опять долбят!"
Он опять поспал немножко
и опять взглянул в окошко.
Увидал огромный зал,
удивился и сказал:
"Конференция какая?
Наш район иль кустовая?"
А сосед ответил тут:
"Это вас опять... несут".
Закричал он: "Что за шутки?
Нет покоя ни минутки",
повернул свой тощий зад
и уехал в Ленинград.
Вот какой рассеянный
и самонадеянный
автор безыдейный
с улицы Рубинштейна.
Особенно дорог мне лично Саша Володин потому, что он всегда считал меня хорошим человеком. У меня много друзей (ну, много друзей не бывает, но для общего лимита друзей на одну душу населения у меня много - только бы не умирали так внезапно и подряд). Друзья мои относятся ко мне вполне доброжелательно, и даже любят, и даже иногда говорят об этом стыдливо, но... единственный, кто не постеснялся очень давно сказать, что я хороший человек, был Саша Володин. Смелый, яркий и мужественный поступок. На его кухне в Ленинграде даже висело воззвание-плакат: "Шура - идеал человека!" Этот лозунг, где вместо Маркса, Ленина, Пастернака был обозначен я, являл собой открытую гражданственность и цельность хозяина кухни.
Маленький (тогда) сын Володина, пробивающийся к истокам российской словесности, читал этот призыв по слогам и с удивлением спрашивал папу: а почему Шура - и делал человека? Идут, летят, не знаю, что еще делают - в общем, проходят годы, меньше шутим, реже встреча-емся, отчаяннее охаем, а когда собираемся (чаще всего у Зямочки Гердта), то вспоминаем, вспоминаем и оттаиваем...
ГЕРДТ
Я, Ширвиндт А.А., как крупнейший специалист по юбилейным застольям, хочу облечь данное мини-исследование в форму тоста.
Друзья! Разрешите поднять этот, в данном случае умозрительно-символический бокал за очаровательное украшение нашей жизни за Зиновия Гердта.
В эпоху великой победы дилетантизма всякое проявление высокого профессионализма выглядит архаично и неправдоподобно. Гердт - воинствующий профессионал-универсал.
Я иногда думаю, наблюдая за ним: кем бы Гердт был, не стань он артистом?
Не будь он артистом, он был бы гениальным плотником или хирургом. Гердтовские руки, держащие рубанок или топор, умелые, сильные, мужские (вообще Гердт "в целом" очень похож на мужчину - археологическая редкость в наш инфантильный век). Красивые гердтовские руки - руки мастера, руки артиста. Мне всегда казалось, еще тогда, у Образцова, что я вижу сквозь ширму эти руки, слившиеся с куклой в едином живом организме. Не будь он артистом, он был бы поэтом, потому что он не только глубокая поэтическая натура, он один из немногих знакомых мне людей, которые не учат стихи, а впитывают их в себя, как некий нектар (когда присутствуешь на импровизированном домашнем поэтическом джейм-сейшне - Александр Володин, Булат Окуджава, Михаил Козаков, Зиновий Гердт, - синеешь от белой зависти).
Не будь он артистом, он был бы замечательным эстрадным пародистом, тонким, доброжелательным, точным. Недаром из миллиона "своих" двойников Л.О.Утесов обожал Гердта.
Не будь он пародистом, он был бы певцом или музыкантом. Абсолютный слух, редкое вокальное чутье и музыкальная эрудиция дали бы нам своего Азнавура, с той только разницей, что у Гердта еще и хороший голос.
Не будь он музыкантом, он стал бы писателем или журналистом: что бы ни писал Гердт, будь то эстрадный монолог, которыми он грешил в молодости, или журнальная статья, - это всегда индивидуально, смело по жанровой стилистике.
Не будь он писателем, он мог бы стать великолепным телевизионным шоуменом - но, увы, уровень наших телешоу не позволяет пока привлекать Гердта в этом качестве на телеэкраны.
Не будь он шоуменом, он мог бы стать уникальным диктором-ведущим. Гердтовский закадровый голос - эталон этого еще мало изученного, но, несомненно, труднейшего вида искусства. Его голос не спутаешь с другим по тембру, по интонации, по одному ему свойствен-ной иронии, будь то наивный мультик, "Двенадцать стульев" или рассказ о жизни и бедах североморских котиков.
А как бы он танцевал, не случись эта гадость война.
Не будь он артистом... Но он Артист! Артист, Богом данный, и слава Богу, что при всех профессиональных "совмещениях" этой бурной натуры ему (Богу) было угодно отдать Гердта Мельпомене и... другим сопутствующим искусству богам.
Диапазон Гердта-киноактера велик. Поднимаясь до чаплинских высот в володинском "Фокуснике" или достигая мощнейшего обобщения в ильфовском Паниковском, Гердт всегда грустен, грустен - и все тут, как бы ни было смешно то, что он делает. Тонкий вкус и высокая интеллигентность, конечно, мешают его кинокарьере в нашем поп-мире, но поступиться этим он не может. "Живой" театр поглотил Гердта сравнительно недавно, но поглотил до конца. Его Костюмер в одноименном спектакле - это чудеса филигранной актерской техники, бешеного ритма и такой речевой скорости, что думалось: вот-вот устанет и придумает краску-паузу, чтобы взять дыхание, - не брал, несся дальше, не пропуская при этом ни одного душевного поворота.
Гердт по-детски любознателен. Он любопытен к людям, он изучает новые "особи", они ему интересны, он страстно влюбляется, потом часто остывает, к буйной радости друзей-ревнивцев.
Наивно желать Гердту творческих успехов - он воплощение успеха. Пошловато ратовать за вечную молодость - он моложе тридцатилетних.
Надо пожелать нам всем помогать ему, не раздражать его, беречь его, чтобы он, не дай Бог, не огорчился, разочаровавшись в нас, тех, ради которых он живет и творит.
Рядом, на эту же букву, в моей книжке идет
ГОРИН
Есть счастливые характеры, приспособившиеся так располагать себя в жизненном пространстве, что там почти не остается места для сомнений. Это, конечно, тоже комплекс, но комплекс удобный и даже, наверное, счастливый. Общаясь с такими особями, моментально впадаешь в некую зависимость от них. Делаешь ли ты для данного субъекта какое-нибудь незначительное доброе дело, просто приглашаешь в гости, встречаешься ли случайно на перекрестке улиц или жизни, ты моментально ощущаешь себя в чем-то немножко виноватым, непроизвольно пытаешься загладить несуществующую вину и тут же становишься еще более виноватым.
Мой любимый друг и замечательный писатель Григорий Горин очень умный. Ум его аналитичен, что крайне редко в черте оседлости нашего круга. Он всегда был моложе своих друзей, и поэтому его сохраненная до сих пор детская непосредственность выглядит органично. Он очень обидчив, но скрывает это, а за него обижается его нежнейшая жена Любочка, а так как она сама очень обидчива, то ей приходится обижаться за двоих, и она немножко обижена все время.
Гриша человек сильный, волевой и решительный. Он живет и пишет по своей совести и разумению. Труднее ему становится, когда он натыкается на еще более сконцентрированную фигуру... Так, Марк Захаров заставил его переписать своими словами почти всю мировую классику. Он долго и молодо работал и дружил с Аркановым, потом они перешли в одиночный разряд, так как повзрослели, возмужали и переросли стадию коллективного труда. Это официальная и правильная версия, но, взглянув на распад этого удивительного дуэта из глубины дружеских веков, понимаешь, что два таких полюсных индивидуума никогда бы не смогли долго сосуществовать. Когда космонавтов перед полетом мучают на совместимость, то складывается ощущение, что эта проверка носит чисто физиологический характер. Когда два художника плотно и долго сидят друг против друга, очевидно, кроме попытки идентично преодолеть жизненную и творческую невесомость, возникает стихия изначальной разности, а тут уже недалеко и до раздражения. А при раздражении не возникает экстаза, а без экстаза ничего крупного не совершишь.