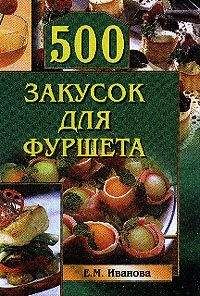Андрей Соболь - Человек за бортом
Куда? — все равно, но подальше от мангалок, от зеленой плевательницы в кармане, от разбухшего вице-губернатора. И даже от моря, что шумит днем и ночью, но и днем и ночью чужое.
Чужое, — потому что есть берега другие, желанные, а к ним не пробраться, потому что есть уголок на далеком севере, куда путь преградили взорванные мосты, вывороченные рельсы, поля, переплетенные колючей проволокой, пушки, пылающие деревни, броневики и люди, люди, люди: одни с одними знаменами, другие с другими, но и те и эти мокнущие под дождем, но и те и другие несущие смерть.
Вице-губернатор знает, что в этом теплом краю, где кудрявый виноград цепко ухватился за землю и солнцем пьян, где розовый миндаль в цвету похож на сон, навеянный чтением сказок Шехеразады, ему придется окончить дни свои.
Но он терпеливо принимает неизбежный удел: Сувалкской губернии не существует, в вице-губернаторской квартире, нет сомнения, живет какой-нибудь проходимец; партнеры по преферансу разбрелись по свету божьему, и где их теперь найдешь, а начальник контрольной палаты еще в прошлом году где-то в Твери или Коломне умер от тифа, — и вице-губернатор аккуратно пьет свое молоко, еще теплое, еще пахнущее выменем, и сопит, не от огорчения и боли, а только потому, что он отучнел, и что все труднее и труднее ему дышать.
Андрюшку все любо: и море, и раковины, и ястреба над Чертовым пальцем, и татарки с монетами в мелких косичках, и одноглазая камбала. И не мудрено, что он наливается, как колос, смуглеет, как цыган, и, как татарчата, не знает он тесноты штанишек и неудобства рубашек.
«Светлейшая» дружит с Андрюшком.
Андрюшок «светлейшей» приносит медуз, морских коньков; «светлейшая» уже давно мечтает порадовать Андрюшка паровозом или шумливым аэропланом. Но у «светлейшей», хотя около постели и висит золотая в плетении сумочка, денег мало, и все чаще и чаще болгарин Бастичев, лавочник из села, уносит к себе то колечко, то пару лайковых перчаток, то шелковую кружевную рубашку.
А поэт обо всем этом знает.
Быть может, мангалка «светлейшей» ему все рассказывает: поэт верит, что мангалки знают все хозяйские тайны и могут о многом поведать.
И не потому ли иногда вечером поэт тихонько ставит свою мангалку на место мангалки «светлейшей», а чужую уносит к себе, греет на ней местное красное вино, очень дешевое, но крепкое, прибавляя к нему корицы, кладя мускатный орех, запах которого напоминает ему Индию, — и слушает, слушает, как верещит мангалка.
А когда мангалка отмирает, и огненные ее язычки перестают облизываться, поэт пьет горячее вино, снимает скуфейку и напевно читает (о нет, не свои стихи, их он прочтет только одной ей, единственной, когда она придет, взглянет, заманит, заворожит):
Нет, не люблю я за кубком слушать шумные речи
О кровавой войне и раздорах.
Кто Афродиту, Эрота и Муз прославляет за пиром —
Тот приятен в своих разговорах.
А после четвертого, пятого стакана он прощается со старым приятелем Анакреоном и русским стуком стучит в стенку соседу — Мировичу — и зовет его к себе провести час-другой по-русски: выпить и поплакать. И, сорвав с себя венок, сплетенный утром в горах из вереска, натягивает скуфейку до ушей и пьет, пьет сосредоточенно восьмой, десятый стакан, и уже нет ни Индии, ни Греции, не качается палатка на просторной спине философа-слона, не прыгает в оливковой роще растрепанный фавн, не шелестят опахала из павлиньих перьев, а тянется мокрая проселочная дорога, стынут березки в предвечернем зыбком тумане, и за пряслом дымит избенка горьким и тоненьким дымком.
— Мирович, у вас удивительная фамилия. Так хорошо сказать вам: Мирович, выпьем. Или: Мирович, айда.
— Куда? — спрашивает Мирович, ставит свой стакан на стол и прищуривается в уровень стакана. Глаза у него продолговатые, и постоянно на лице его тень от ресниц, точно от какой-то злой птицы, всегда над ним парящей, как кружится неизменно птица-орел над завоевателем, победителем и удачником. Прищуривается так, как будто в красной жидкости пытается разглядеть, куда какие дороги побежали.
Мирович скуп на слова, а может быть, скуп и на другое: он плохо одет, питается скудно и говорит он нехотя:
— Некуда! Сидите…
Вино все выпито. За окном шумят тополя, в высь стремящиеся в бессмертной красоте, о такой же красоте, неумирающей и вечной, твердит море, волну за волной посылая к берегу, точно вестников в серебряной броне о победе, а поэт длинноногий, подобный бурятскому божку, грезит об единственной и не в силах спрятать свою тоску по ней — близкой, вот тут живущей рядом, «светлейшей», и — такой далекой.
— Мирович, у вас поразительная фамилия. Так хорошо сказать вам: Мирович, повесимся.
— Я еще жить хочу, — цедит сквозь зубы Мирович слова и последние капли вина. — Хочу! — и вдруг стучит кулаком по столу.
И это так неожиданно, так непохоже на него: он всегда ровен и спокоен, редко повышает голос, а тут кричит, и так громко, что «светлейшая» может проснуться.
— И буду жить. Хоть с чертом, с дьяволом, но я уйду отсюда. Опротивела мне эта бирюза. Тошно от олеографии. Вечно перед глазами. Какая-то сплошная выставка глупо намалеванных пейзажей. Не хочу! С дьяволом, но отсюда.
— А где найти его? — робко спрашивает поэт и покусывает ногти: скверная привычка, поэт это знает, но до крови обдирает ногти, как всегда в минуты непоборимой и лютой тоски. — Дьявол! Черт! Они тоже разбежались. Забыли о нашем существовании. Хоть бы один… Черт!..
И, прикрыв глаза исковерканными пальцами, видит поэт раздвоенное копыто, насмешливые губы над узкой, длинной бородкой, сухощавую руку с карбункулом на темном мизинце.
А подняв глаза, уже не находит Мировича: тот ушел незаметно, как всегда.
Куда? — быть может, под окно «светлейшей» или к подножию Чертова пальца.
«Мирович, давай повесимся», — и улыбается поэт, и смеется над собой, над лысиной своей, над тетрадкой своих стихов о приходе единственной и о глухих переулках недоступной, желанной Москвы.
Улыбается, смеется, потому что уже светает, уже отошел хмель, но и плачет — плачет над теми же стихами, над той же лысиной.
Все ближе и ближе заря — и вот потух синий огонек в деревянной вышке напротив, в маленьком цветном оконце приземистой дачи, где живет звездочет — странный человек четырехугольного сложения и низкого роста, с бородой цвета шафрана и тройной фамилией Бурейша-Домгайло-Кричинский, бодрствующий по ночам, от солнечного света убегающий за гардины, портьеры и ставни, владелец полуразрушенного дома, выжженного виноградника и небольшого телескопа.
Когда в синем оконце гаснет огонек — значит, рассвет придвинулся, значит, сейчас солнце всплывет.
«Светлейшая» знает это: не впервые ей отходить от своего окна вместе с синим огоньком.
И, присев на край несмятой постели, говорит себе «светлейшая»:
— Вот еще день прошел. Боже, научи меня все, все забыть!..
Номера у Пататуева не пустуют, есть даже и кандидаты, очереди своей ожидающие в ближайшем городке, где много солдат, пыли, караимов, где на улицах постоянные сборы то в пользу раненых, то на воздушный флот, то на агитационную газету. Кандидаты рвутся к морю, к виноградникам, а Пататуев рад, и нет сомнения, что, отходя ко сну, молит господа бога не вмешиваться в людские распри.
Оперная певица обожает шашлу и верит, что от шашлы похудеет, и зимой, когда, наконец, можно будет вернуться в Киев, шашла позволит ей играть и умирающую Травиату, и легко скользящую Лакмэ. Вице-губернатор в восторге от болгарской молочницы и видит в этом достойное вознаграждение за все то, что некогда Россия сделала для Болгарии. Крупный железнодорожный чиновник в белоснежном кителе сверкает посеребренными орлами пуговиц и о взорванных мостах не беспокоится, и не сомневается, что в назначенный и нужный час быстро поднимутся со дна речного грузные быки, и перекинутся сквозные железные арки, почтительно прокладывая дорогу действительному статскому. Харьковская медичка на пляже окончательно развязалась со своею бледной немочью и даже иногда пудрится.
И только три человека не знают, как уйти от пататуевских клумб, киммерийских скал, татарок и даже от моря.
И трое, когда заговаривают об отъезде, не могут не подумать о «светлейшей»: а что будет с нею?
Но «светлейшая» об этом не знает, а если даже и догадывается, то молчит и, только гладя Андрюшка, улыбается изредка Лунину, порой поэту и уже чаще Мировичу — и лишь тогда понимают все трое, что во всем саду, а может быть, и во всем мире, они трое для «светлейшей» живые, будто даже и близкие, а все остальные — тени, и разве тень может задеть, огорчить или порадовать?
Что ей тени, когда даже и живые, вот эти самые «будто даже и близкие», ни разу не смогли ее заставить рассмеяться, заплакать, выйти в сад лишний раз, сказать лишнее слово, пройти чуть дальше, оглянуться с пути, небрежнее или мягче накинуть платок, протянуть руку. А ведь у поэта под скуфейкой складываются очаровательные строфы о ней, простые и мудрые. А ведь у Лунина, хотя и одно легкое, сердце преданное и верное, а скарамуш-Мирович, человек-прохожий, без роду и племени, от тетки родившийся, как он однажды сказал поэту, ведь найдет единственный камень и даст его «светлейшей», разыщет если не на берегу, то там, где над лихими провалами спорит с орлами и ветрами острый, упорный и беспощадный Чертов палец…