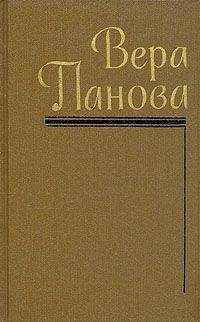Вера Панова - Кружилиха
Дверь его квартиры была открыта настежь. На пороге стояла Домна, уборщица. По толстой согнутой спине ее было видно, что она удручена. Что-то случилось. Что могло случиться?
Домна повернула к нему обиженное лицо и молча посторонилась. Дорожный сундучок, зашитый в холст и обвязанный новой веревкой, стоял в передней. Листопад вошел и увидел: мать приехала!
Она мыла пол в его кабинете. Верхнюю шерстяную юбку она сняла, рукава засучила почти до плеч. Выжимая тряпку, она ядовито говорила что-то Домне. Услышав шаги, бросила тряпку в ведро и пошла навстречу.
- Здравствуй, Сашко, - сказала она.
- Мамо! - сказал он радостно.
Она отвела мокрые руки, чтобы не запачкать его, он обнял ее, они поцеловались. От нее пахло молоком, смальцем, чистым бельем, которое полоскали в речке и расстилали сушить на траве под солнцем, - всеми родными запахами детства.
- А покажься! - сказала она и внимательно посмотрела ему в лицо. По глазам ее он понял, что постарел и не особенно нравится ей. Да она и не думала это скрывать.
- О-о! - сказала она и покачала головой. - Какой же ты стал старый да поганый. - Она опять наклонилась к ведру. - Сидай, Сашко, вон там в уголочку, там уже помыто. Обожди, пока домою. На мокрое не ступай.
Он покорно переступил через лужу, сел на стул и сразу почувствовал себя хлопчиком.
- Не угодила, вишь ты, - сказала Домна с убитым видом. - Всегда всем угождала, а тут не угодила, сами схватились мыть. Как будто я не так помою.
- Вы идите по своим делам, - сказала мать. - Вы за ним не смотрите, в хорошей такой квартире, бачь, мусору развела.
- Так я при чем, - сказала Домна, - три дня Меланья дежурила, прах ее возьми, она всегда...
Листопад засмеялся.
- Ладно, ладно, - сказал он, сидя с подобранными под стул ногами. Чай будете, мама, пить?
- И чаю выпью, и покрепче чего, если угостишь гостью, - отвечала мать. Разогнув спину, она полюбовалась своей работой. - Все ж таки никто так не вымоет, как родная мать, - сказала она.
С детских лет Листопад гордился своей матерью.
Это была мужская гордость. Ему нравилось, как она говорит, как ходит. И лицо ее нравилось. И голос - негромкий, словно нарочно притушенный, словно она могла бы говорить громче, да не хотела.
Сейчас ей шестьдесят два года - она на семнадцать лет старше его. В темных косах уже сильная проседь. Больше всего постарели руки - стали жилистыми, некрасивыми. И все-таки трудно ей дать больше пятидесяти, и все-таки хороша... а какая была когда-то!
Была она хорошего роста, суховатая, с длинными ногами, легкая, ловкая. Лицо орлиного складу, нежно-смуглое, без румянца. Длинные карие глаза под длинными темными бровями. Рот нежно окрашенный, с прекрасными зубами. Станет косы переплетать - до колен закроется волосами...
Бабы считали ее некрасивой: округлости нету, румянец не играет, голос незвонок... Но когда она овдовела, стали прятать от нее своих мужей. Она была не очень разговорчива; но что-то было в ее сдержанном голосе, на что оборачивались все мужские головы. И была у нее такая повадка: говорит-говорит со строгим, немного нахмуренным лицом и вдруг взмахнет длинными бровями и улыбнется, сверкнут зубы - и на всех мужских лицах в ту же секунду возникает покорная ответная улыбка...
Она выросла в большой, бедной и безалаберной семье. Шестнадцати лет ее выдали замуж за зажиточного хуторянина. Он женился на ней по горячей любви, против воли своих родных. В первый год замужества она родила сына Александра; других детей у нее не было во всю жизнь.
На третий год ее муж умер от укуса бешеной собаки. Она осталась с маленьким Сашком. Она заметно грустила, стала небрежна в одежде, до глаз повязывалась серым платком, как монашка. Мужняя родня ее не любила. Свои родичи нахлынули - за подачками. Она равнодушно раздавала им добро, оставшееся после мужа. Раздала почти все. Хозяйство пришло в упадок. Если ей не хотелось полоть, она не шла полоть, огород зарастал сорняками. Ей лень было возиться с курами, и куры одичали, ночевали в саду на деревьях. Занимал ее только Сашко. Она кормила его сладко, гуляла с ним, перешивала для него свои кофты и спидницы.
Такой дремотной и скучной вдовьей жизнью она прожила четыре года. И вдруг заехал к ней родич, муж родной ее тетки. Он был глава большой семьи, уважаемый, степенный, важный. Всю жизнь она звала его: "дядька Олексий". А он ее звал Настькой. Он проезжал мимо хутора и заехал из-за непогоды: в пути его застиг ливень, надо было переночевать где-то; и он вспомнил, что тут поблизости живет жинкина родичка, которую он знал еще девчонкой и у которой чоловик помер от бешеной собаки. Он почти не взглянул на нее, когда она вышла к нему затрапезно одетая, в сером платке до глаз. Но, угощая его, она сняла платок и улыбнулась, и взмахнула бровями, - и он в первый раз увидел ее! Он сразу потерял свою важность, стал смеяться и шутить, стал как парубок. Она смотрела на него удивленными, сияющими глазами, - она тоже в первый раз его увидела. Так зародилась эта любовь, которую они пронесли через всю жизнь и донесут до гробовой доски.
Он оставил все свое имение жене и детям и переехал к Насте на хутор. Пожилой, женатый человек пошел в приймы к молодой вдове, небогатой, безродной! Шум поднялся в округе. Закричала, забушевала вся родня и Олексия, и Насти, и покойного Настиного мужа. Приезжал поп. Увещевали, срамили. Брошенная жена, Настина тетка, грозила выжечь разлучнице очи кислотой. Дети отреклись от отца, оскорбившего мать, опозорившего семью. Только люди, не дорожившие своим добрым именем, заходили теперь в Настину хату.
Ей было это нипочем: она только смеялась. Но Олексий не привык так жить, ему было тяжело. Он продал Настину хату и купил другую, подальше от родных мест, в селе Братешки, около станции. Хата была куплена на Настины деньги, она принадлежала Насте и ее сыну. Олексий не хотел ходить в приймаках; он поступил сцепщиком на железную дорогу, чтобы остаться хозяином самому себе. О нем говорили, что он обувает и разувает Настю, что он косы ей плетет... Плевать он хотел на эти балачки, когда он хозяин самому себе!
Отчим он был никакой. Привезет иногда игрушку с ярмарки. Скажет: "Сашко, сбегай за табаком". И больше ничего. Сашко рос по-прежнему при матери. Она его воспитывала: рассказывала путаные и нескладные - не поймешь, что к чему - истории про домовиков и русалок. Лечила тоже сама: если делался жар, она укладывала сына на печь и ставила ему горчичник на затылок. Жар проходил.
Она сшила ему новую рубашку и за руку отвела его в школу, когда ему исполнилось девять лет.
- Ты разумный, Сашко, - сказала она, - тебя учить треба. Без ученья разумной людине - ой, погано жить!..
Сама она едва умела читать и не брала книжки в руки, но любила, чтобы читали вслух, и Олексий иногда читал ей по вечерам...
Случалось, на нее находили приступы детского раздумья. Летней ночью она выходила на середину двора и, сложив руки на груди, закинув голову, подолгу смотрела на яркие звезды.
- Дивись, Сашко, - говорила она, - сколько их, зирок, и что там на них, - как бы дознаться, ага, Сашко?
Однажды, прибежав из школы, он увидел ее сидящей на крыльце. Она ничего не делала, просто сидела, уронив руки между коленями, и смотрела на землю, в одну точку.
- Тише, - сказала она, - тише, не напугай его...
Он посмотрел в направлении ее взгляда и увидел маленького толстого червяка, г у с е н ь, который страшно медленно, судорожно переливаясь всем телом, полз к крыльцу.
- Лезет, лезет, - шептала мать. - Уже час целый лезет, такое малое... И куда оно лезет, и чего ему надо?.. Обедать хочешь? - спохватилась она и встала с сожалением. Взяла червяка и осторожно перенесла на траву.
- Вот здесь гуляй, нечего тебе робить в хате...
Пятнадцатилетний Сашко Листопад стоял на узком деревянном перроне станции Братешки и смотрел на поезда. Воинские эшелоны иногда останавливались здесь, и на несколько минут маленькая станция наводнялась защитными рубахами, говором, запахом солдатских тел... Поезда дальнего следования проносились без остановки. Люди смотрели из окошек. Жизнь летела, судьбы, надежды. Сашко любил пассажирские поезда!
Вдоль перрона росли серебряные тополя. Летними вечерами на перроне гуляли дивчата и парубки. Диспетчер Володька играл на мандолине и пел: "Я милого узнала по похо-о-одке..." В темные и томные украинские ночи, под шуршащими тополями, глупая песня звучала грустно, и фонарь обходчика, удаляясь по путям, тревожил сердце.
И мать любила приходить сюда, хотя ей это было совсем не к лицу: ей было уже за тридцать, а здесь гуляла молодежь. Мать садилась на самую дальнюю лавочку и сидела одна, луща семечки, ни с кем не заговаривая и не замечая сына, который гулял поодаль с компанией. Она его нарочно не замечала, чтобы не смущать. Он понимал, что она тут не для того, чтобы присматривать за ним. Ей бы это и в голову не пришло. Она приходит слушать мандолину и смотреть на огоньки, и та же тревога у нее в сердце, и те же неясные думы, что у него... Ах, как он любил ее за то, что думы те же и тревога та же!