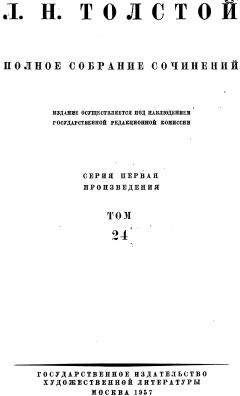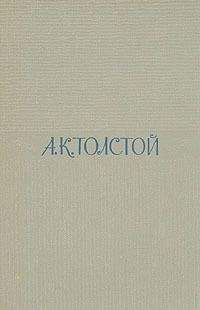Юрий Тынянов - Портреты и встречи (Воспоминания о Тынянове)
Юрий Николаевич ценил Случевского за вызывающе острые углы его стиля, за его явно выраженную «негладкость», за контрасты в сочетании трагической темы с прозаизмами, просторечием, канцеляризмами даже. Эти черты особенно резко выступали в ранних редакциях многих стихотворений и поэм (в частности — «Элоа»), и Юрий Николаевич считал, что их и следовало бы печатать вместо более поздних, хотя и апробированных автором. (На такой же точке зрения он стоял относительно ранних редакций у Баратынского.) Я держался другого мнения, а именно, что последние и окончательные варианты стихов Случевского — это новые редакции, иногда — просто новые вещи, сила которых — в большем стилистическом единстве, в более глубокой разработке оттенков трагического смысла, достигнутой без ярких контрастов с иными элементами стиля. Это предпочтение поздним редакциям я подробно обосновал во вступительной статье к «Стихотворениям и поэмам» К. Случевского в издании большой серии «Библиотеки поэта» (Л., 1962), где первоначальным вариантам отдельных строк, строф и целых стихотворений отведено особое приложение (»Другие редакции и варианты»), а в книжке малой серии 1941 года первыми редакциями удалось представить (в особом небольшом разделе) лишь очень немного стихотворений.
Был я привлечен Ю. Н. — не как редактор, а как консультант и рецензент — и к другой весьма трудоемкой работе — по подготовке для большой серии антологии «Грузинские романтики». Дело было новое, так как в 1935 году, когда началась работа, опыт издания классиков наших братских литератур (в переводах, делаемых с подстрочников) был еще мал. Привлечены были лучшие поэтические силы Ленинграда и Москвы — в их числе М. Л. Лозинский, П. Г. Антокольский, Н. А. Заболоцкий, В. А. Рождественский, С. Д. Спасский, С. В. Шервинский, из переводчиков-профессионалов А. И. Оношкович-Яцына, Б. Брик и другие, из талантливой молодежи Всев. Андр. Римский-Корсаков (погиб во время блокады).
Получив приглашение на первое организационное собрание участников работы над этой антологией, я пытался отказаться — сослался прежде всего на незнание грузинского языка. Но Юрий Николаевич ответил мне, что все здесь в одинаково трудном положении — кроме нашего консультанта, грузинского литературоведа и фольклориста Е. Б. Вирсаладзе, которая и проделала огромную работу с подстрочниками. Юрий Николаевич порекомендовал мне ознакомиться с известными из истории мировой литературы случаями создания переводов по подстрочникам (Жуковский — «Одиссея», Гёте «Западно-восточный диван» и др.). Моя работа свелась к рецензированию выполненных переводов, т. е. к оценке их поэтических качеств как русских стихов в соотношении с подстрочниками, которые, к счастью, в огромном большинстве случаев были сделаны филологически надежно и литературно удовлетворительно. Но работа над антологией страшно затянулась: многие переводы — по тем или иным причинам — приходилось заменять, заказывая новые. Вступительную статью — на основании предоставленных нам материалов пришлось в конечном итоге писать вдвоем А. Г. Островскому и мне. Книга, оказавшаяся многострадальной, вышла в 1940 году.
Так как деловых поводов для встреч с Тыняновым было много, то и помимо тех случаев, когда он сам звал меня прийти, бывал я у него часто, в среднем, вероятно, не реже раза в месяц. Я теперь старался не задерживаться у него, зная, как он быстро утомляется. Еще и раньше, в конце 20-х годов, когда болезнь только издали подкрадывалась к Юрию Николаевичу и долго оставалась нераспознанной, нередко бывало, что, оживленно начав разговор, проявив неподдельный интерес к его предмету, он потом как-то погасал, делался вялым и, казалось, уже не слушал. Теперь утомление наступало быстрее, и с этим необходимо было считаться.
* * *
Одним из отрадных для Юрия Николаевича эпизодов последних предвоенных лет стала его поездка в Москву по приглашению Центрального Дома Красной Армии — для выступления перед большой аудиторией военных, которой он должен был рассказать о работе над романом «Пушкин» и всей пушкинской темой и почитать отрывки из романа. Юрий Николаевич остался чрезвычайно удовлетворен встречей с московскими красноармейцами и командирами. Большое впечатление произвела на него осведомленность, культура этих слушателей, атмосфера демократизма, господствовавшая в аудитории, серьезность вопросов, заданных ему, и выступлений. «Наши сержанты судят, как капитаны», — говорил он.
* * *
Но наступил и июнь 1941 года. В это лето я виделся с Тыняновым только один раз, в начале июля, накануне его отъезда с семьей в Ярославль; правда, точная дата отъезда (хоть и состоялся он на другой день) еще не была известна, но необходимость эвакуации была ясна. Он был очень мрачен. Я пробыл у него недолго. Мы простились. Было ясно, что это — на долгий срок, может быть, навсегда. Так оно и случилось.
Сейчас горько приходится жалеть о том, что я не вел дневников, не записывал разговоров с выдающимися людьми, которых мне посчастливилось знать; не записывал я и разговоров с Тыняновым. Писем, вернее, записок от него у меня немного: в Ленинграде была всегда возможность телефонного общения, и он только изредка писал мне летом с дачи, если в том была деловая надобность. Вот почему эти воспоминания — только сохраненные памятью фрагменты, и так мало в них речи самого Юрия Николаевича — только то, что я могу передать хотя бы с приблизительной точностью.
1974
Лев Успенский
АБСОЛЮТНЫЙ ВКУС
Сочетание инициалов «Ю» и «Н» с фамилией «Тынянов» впервые встретилось мне не на титульном листе книги, не в виде подписи под научной статьей, а в фотовитрине на нынешней улице Бродского, в те времена трамвайные кондукторши единогласно объявляли ее как «улицу Лассаля». Витрина была укреплена на углу Невского, против «Европейской гостиницы».
В ее верхней части была красивая надпись: «Литераторы Петрограда» или что-то в этом роде. Представления не имею, «от кого» она была тут выставлена; по-моему — не от Наппельбаума. С серых паспарту смотрели на меня лица совсем еще молодых К. Федина, Н. Никитина, М. Слонимского... С тех пор прошло пятьдесят лет, даже пятьдесят один год, но выражение лица Михаила Леонидовича Слонимского почему-то запомнилось мне прочнее всех. Не скажу точно, но, кажется, были там и Н. Тихонов, и В. Саянов, и другие.
Среди всех этих портретов глаза мои задержались на лице, до того мне совершенно незнакомом, но таком, что, взглянув на него однажды, с другими лицами его уже не спутаешь, — на лице человека не очень намного старше меня самого, с проницательным, а в то же время как бы ушедшим внутрь себя взглядом, с темными, насколько можно судить (фотография всегда допускает некоторое сомнение на этот счет), вьющимися волосами, с чертами, к которым, пожалуй, больше всего подошло бы определение «креольские».
На паспарту этого снимка, под ним, и было написано: «Ю. Н. Тынянов», а может быть, и пространнее — «Юрий Тынянов». Давно все это было; не рискую утверждать с такой точностью.
Неуверенность моя, однако, может способствовать датировке: в 1924 году я уже хорошо знал имя Тынянова, потому что брат мой, проучившись год в Институте истории искусств, прожужжал мне уши рассказами о тамошних профессорах. Еще год спустя вышел «Кюхля» и пленил меня, а осенью 25-го я и сам поступил в институт и, разумеется, совершенно иначе отреагировал бы на эту фотографию.
Я же тогда, каюсь, вовсе не «отреагировал» на нее, и, скорее всего, весь этот эпизод нацело стерся бы в моих воспоминаниях, если бы не «бывший чиновник».
Я стоял и с досужим любопытством рассматривал «Петроградских литераторов» и внезапно почувствовал на своем правом профиле чей-то пристальный взор. Пристальный, заискивающий и вопросительный. Рядом со мной переступал с ноги на ногу самый типичный «бывший» — среднего роста человек в разбитых ботинках, потертом и засаленном демисезонном драповом пальто и фуражке с околышем бутылочно-зеленого плюша. Над потрескавшимся лакированным козырьком ее, как раз посредине околыша, можно было еще разглядеть след от сорванного — технологического или «Почт и телеграфов» значка. «Бывший» нетерпеливо выжидал мгновения, когда я обращу на него внимание. Он с готовностью зашмыгал красным носом своим, заулыбался ухмылкой искательной и злой, как у много битой собаки.
— Писатели земли русской! — с не выраженной въявь, но вполне ощутимой ненавистью ткнул он не указательным, а большим пальцем в витрину. Тынянов, извольте видеть... Ихний теоретик! Живет, загримировавшись под молодого Пушкина... у тех, конечно, желтые кофты были, но чтобы чужие маски носить... Да нет, нет! Я ничего плохого... — вдруг сделал он крутой вираж, видимо правильно прочтя выражение моей физиономии. — Может быть — великие таланты... Ничего не говорю... Не мне судить...