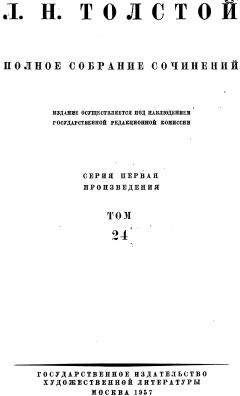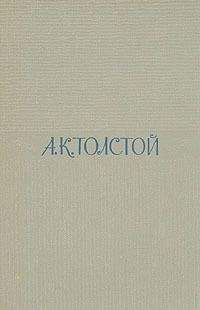Юрий Тынянов - Портреты и встречи (Воспоминания о Тынянове)
Я продолжал бывать у него дома, встречались мы на некоторых собраниях в Доме печати на Фонтанке, 7, где до основания Союза советских писателей были сосредоточены литературные организации, входившие в состав Федерации объединений советских писателей (ФОСП), с 1934 года — в Доме писателя имени Маяковского, в редакции «Библиотеки поэта», наконец — и в филармонии, на Концертах, где он появлялся иногда. Помню исполнение прекрасной сюиты Сергея Прокофьева для оркестра, составленной из музыки к фильму «Поручик Киже» — несколько симфонических номеров и одного вокального — для женского голоса на слова романса, кажется, XVIII века «Сердца у женщин — как трактир, Прохожих — целый мир». Юрию Николаевичу не нравился в составе оркестровой сюиты этот вокальный номер, нарушавший, на его взгляд, цельность произведения. Он поделился своим мнением с композитором и с удивлением рассказывал о словах, услышанных в ответ: «Какой Сергей Сергеич меркантильный! Он говорит: ведь этот номер идет полторы минуты». (»Меркантильность» имелась в виду, конечно, не в житейском смысле, а в творческом — как нежелание жертвовать созданным).
* * *
Зимой 1936/37 года Юрий Николаевич переехал в новую, отдельную теперь квартиру, предоставленную ему Ленгорисполкомом и специально для него отделанную. Находилась она в самом центре города, в одном квартале от Невского, от Дома книги, от Казанского собора — ул. Плеханова, 8/10, кв. 49, Квартира была старинная, добротная — из четырех комнат с высокими потолками. Две из них — столовая и комната Елены Александровны — выходили на улицу Плеханова, довольно узкую, с недавно проведенной там трамвайной линией (теперь снятой); было там темновато, а при открытых окнах, вероятно, и очень шумно. Две другие — просторный кабинет Юрия Николаевича и комната дочери — выходили во двор, довольно широкий, окруженный невысокими строениями; кабинет был самой светлой комнатой в квартире. Между ним и комнатами противоположной стороны было два небольших коридора; стены были старинной кладки, толстые. В эти коридоры была вынесена часть книжных полок, от которых кабинет был в значительной мере освобожден. Письменный стол стоял в простенке между двумя окнами. В кабинете было очень тихо только за стеной в соседней квартире часто выла собака, остававшаяся, видимо, в одиночестве, и этот глухой вой раздражал Юрия Николаевича. Единственным серьезным недостатком нового жилища было для Юрия Николаевича то, что находилось оно на третьем этаже, этажи были высокие, а лифта не было.
Тонус жизни здесь стал несколько иным, приглушенным. Сказывалась и болезнь Юрия Николаевича, часто болела и Елена Александровна. Народу бывало, насколько я мог судить, меньше, чем раньше на Греческом: по крайней мере, я значительно реже заставал у Юрия Николаевича посетителей. Реже звонил и телефон — Юрия Николаевича стеснялись теперь беспокоить без крайней надобности.
Встречал я у него часто моего институтского друга Арсения Георгиевича Островского, занимавшего в «Библиотеке поэта» пост редактора-организатора и связанного с Юрием Николаевичем постоянными редакционными делами; зимой 1939/40 года заходила несколько раз Ахматова, сборник которой «Из шести книг» готовился тогда к изданию в «Советском писателе» под редакцией Тынянова; вышел он в 1940 году. В последние годы перед войной часто бывала там Татьяна Евсеевна Гуревич, помогавшая Юрию Николаевичу как литературный секретарь и занятая также редакционной работой в «Библиотеке поэта». Эта обаятельная молодая женщина погибла в начале октября 1941 года, когда на внутренние помещения Гостиного двора, где располагалось издательство «Советский писатель» с редакцией «Библиотеки поэта», упала немецкая фугасная бомба.
* * *
Юрий Николаевич иногда звонил мне — обычно к вечеру — и приглашал зайти — без какого-либо определенного повода. Я жил недалеко от него и сразу же ехал. Один раз, зимой 1937 года, он позвал меня, чтобы рассказать о благополучном исходе случая, поначалу грозившего неприятностями «Библиотеке поэта» и задевшего ленинградских литературоведов-текстологов; его же этот случай все-таки взволновал.
В центральной прессе появился фельетон Михаила Кольцова под заглавием «Кормушка», как всегда остроумный, едкий, но основанный на недостаточно проверенной информации (по поводу работы текстологов). Объектом фельетона явился выпущенный в большой серии «Библиотеки поэта» объемистый однотомник стихотворений Фета под редакцией Б. Я. Бухштаба, с его вступительной статьей и комментариями. Это издание и поныне высоко ценится. Внимание же Кольцова привлек тот факт, что договоры на издания «Библиотеки поэта» составлялись по действительно нелепой форме, а именно — устанавливалось, что такой-то, «именуемый в дальнейшем автором, передает издательству свой труд» — например, собрание стихотворений Фета, или Лермонтова, или кого угодно, и определялся гонорар за вступительную статью и примечания (работу, конечно, авторскую), а далее — за подготовленный текст поэта — по 1 рублю за стихотворную строчку. Выходило, что редактор получает авторский гонорар за умершего поэта и что это выливается в слишком крупную сумму (к тому же однотомник Фета состоял из огромного количества стихотворных строк). У Кольцова создалось впечатление (и такое же впечатление создавалось у читателя фельетона), что какие-то ловкие люди легко наживаются на наследии классиков русской поэзии. Кольцов писал, что, читая дивные лирические стихи Фета (он цитировал «Шепот, робкое дыханье...»), он словно слышит, как после каждой строчки счетчик (вроде счетчика такси) отстукивает «1 рубль».
Кольцов был блестящим и авторитетным публицистом, и к его выступлениям прислушивались очень внимательно. Но велик был и общественный авторитет Тынянова. Его, как основного руководителя «Библиотеки поэта», как крупнейшего ученого и специалиста в деле издания классиков, вызвали в вышестоящие инстанции, весьма ответственные, и он убедительно объяснил, в чем состоит сложный труд редактора-текстолога, требующий верного прочтения сложных порой автографов, часто и черновых, сличения множества рукописных и печатных редакций, определения окончательного варианта, причем дело осложняется наличием множества ошибок, опечаток, произвольно принятых редакторских решений в старых изданиях. С ним согласились.
Фельетон Кольцова не возымел никаких неприятных последствий для «Библиотеки поэта» и ее сотрудников. А с замечанием насчет нелепой формы договоров нельзя было не согласиться. Рассказывая в этот вечер об этом инциденте, Юрий Николаевич говорил мне: «Что же вы смотрели, подписывая договоры? В самом деле — автор передает свой труд...» Практику оформления договоров немедленно изменили юридически совершенно правильным образом: ввели отдельное «соглашение», заключаемое с редактором на подготовку текста, причем объем определялся уже не по числу стихотворных строк, а по количеству печатных листов, исходя из нормы 500 строк, как составляющих лист (впоследствии эта норма увеличилась до 700), а для вступительной статьи и комментариев сохранился, как и прежде, договор.
Тем дело и кончилось. Запомнилось только заглавие фельетона «Кормушка», и А. Г. Островский, встречая некоторых более близких u постоянных сотрудников «Библиотеки поэта», с обычным для него юмором говорил им при входе в редакцию: «Заходите в кормушку». А вся-то редакция втискивалась в маленькую комнатенку без окон (должно быть, бывшую кладовку — при самом входе с лестницы), где едва помещалось два небольших стола, а у стен лежали кипами папки с рукописями.
Из этой комнатенки-»кормушки» и уходили в типографии книги (большой, а потом и малой серии), становившиеся знаменитыми, постоянно встречавшие горячий отклик у читателей.
Юрий Николаевич вникал в работу по подготовке каждой из них в той мере, в какой качество рукописи требовало его участия — большего или меньшего. Он был в курсе всех дел редакции.
При жизни Юрия Николаевича я подготовил во второй половине 30-х годов две книжки для малой серии: стихотворения Иннокентия Анненского и К. К. Случевского (первая вышла в 1939 году, вторая — в 1941-м). В издании этих двух книг инициатива и поддержка Юрия Николаевича, настоявшего на их включения в план, сыграла немалую роль. Случевский особенно интересовал Тынянова, который, кстати сказать, читал его стихотворения как-то особенно впечатляюще, оттеняя трагический смысл некоторых из них (»После казни в Женеве», «Камаринская», «Ты не гонись за рифмой своенравной...»). При подготовке обоих этих изданий Тынянов, формально не являвшийся их ответственным редактором, много помогал мне при решении сложной задачи отбора стихов, самых лучших, самых характерных, для очень небольших по объему томиков. Кое-чем пришлось и жертвовать: так, по его совету из книжки Случевского была снята поэма «Ларчик», как слишком «кладбищенская» по своему сюжету.