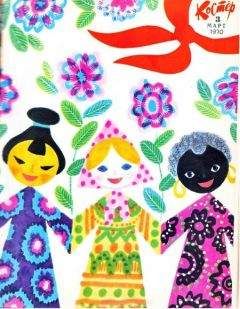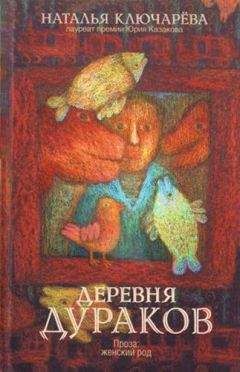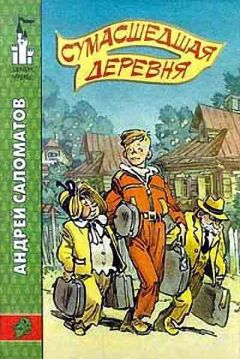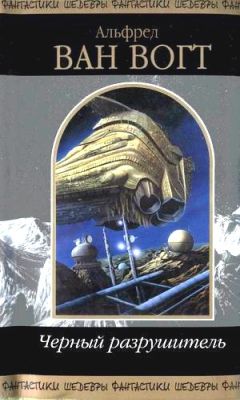Николай Карамзин - Бедная Лиза (сборник)
На польской границе осмотр был не строгий. Я дал приставам копеек сорок: после чего они только заглянули в мой чемодан, веря, что у меня нет ничего нового.
Море от корчмы не далее двухсот сажен. Я около часа сидел на берегу и смотрел на пространство волнующихся вод. Вид величественный и унылый! Напрасно глаза мои искали корабля или лодки! Рыбак не смел показаться на море; порывистый ветер опрокинул бы челн его. – Завтра будем обедать в Мемеле, откуда отправлю к вам это письмо, друзья мои!
Мемель, 15 июня 1789
Я ожидал, что при въезде в Пруссию на самой границе нас остановят; однако ж этого не случилось. Мы приехали в Мемель в одиннадцатом часу, остановились в трактире – и дали несколько грошей осмотрщикам, чтобы они не перерывали наших вещей.
Город невелик; есть каменные строения, но мало порядочных. Цитадель очень крепка; однако ж наши русские умели взять ее в 57 году.{33}
Мемель можно назвать хорошим торговым городом. Курляндский гаф, на котором он лежит, очень глубок. Пристань наполнена разными судами, которые грузят по большей части пенькою и лесом для отправления в Англию и Голландию.
Из Мемеля в Кенигсберг три пути; по берегу гафа считается до Кенигсберга 18 миль, а через Тильзит – 30: большая розница! Но извозчики всегда почти избирают сей последний путь, жалея своих лошадей, которых весьма утомляют ужасные пески набережной дороги. Все они берут здесь билеты, платя за каждую лошадь и за каждую милю до Кенигсберга. Наш Габриель заплатил три талера, сказав, что он поедет берегом. Мы же в самом деле едем через Тильзит; но русский человек смекнул, что за 30 миль взяли бы с него более, нежели за 18! Третий путь водою через гаф самый кратчайший в хорошую погоду, так что в семь часов можно быть в Кенигсберге. Немцы наши, которые наняли извозчика только до Мемеля, едут водою, что им обоим будет стоить только два червонца. Габриель уговаривал и нас с италиянцем – с которым обыкновенно говорит он или знаками, или через меня – ехать с ними же, что было бы для него весьма выгодно, но мы предпочли покойное и верное беспокойному и неверному, а в случае бури и опасному.
За обедом ели мы живую, вкусную рыбу, которою Мемель изобилует; а как нам сказали, что прусские корчмы очень бедны, то мы запаслись здесь хорошим хлебом и вином.
Теперь, милые друзья, время отнести письмо на почту; у нас лошадей впрягают.
Что принадлежит до моего сердца… благодаря судьбе! оно стало повеселее. То думаю о вас, моих милых, – но не с такою уже горестию, как прежде, – то даю волю глазам своим бродить по лугам и полям, ничего не думая; то воображаю себе будущее, и почти всегда в приятных видах. – Простите! Будьте здоровы, спокойны и воображайте себе странствующего друга вашего рыцарем веселого образа!{34} —
Корчма в миле за Тильзитом, 17 июня 1789, 11 часов ночи
Все вокруг меня спит. Я и сам было лег на постелю; но, около часа напрасно ожидав сна, решился встать, засветить свечу и написать несколько строк к вам, друзья мои!
Я рад, что из Мемеля не согласился ехать водою. Места, через которые мы проезжали, очень приятны. То обширные поля с прекрасным хлебом, то зеленые луга, то маленькие рощицы и кусты, как будто бы в искусственной симметрии расположенные, представлялись глазам нашим. Маленькие деревеньки вдали составляли также приятный вид. «Qu'il est beau, ce pays-ci»,[38] – твердили мы с италиянцем.
Вообще, кажется, земля в Пруссии еще лучше обработана, нежели в Курляндии, и в хорошие годы во всей здешней стороне хлеб бывает очень дешев; но в прошедший год урожай был так худ, что правительству надлежало довольствовать народ хлебом из заведенных магазинов. Пять, шесть лет хлеб родится хорошо; в седьмой год – худо, и поселянину есть нечего – оттого, что он всегда излишно надеется на будущее лето, не представляя себе ни засухи, ни града, и продает все сверх необходимого. – Тильзит есть весьма изрядно выстроенный городок и лежит среди самых плодоноснейших долин на реке Мемеле. Он производит знатный торг хлебом и лесом, отправляя все водою в Кенигсберг.
Нас остановили у городских ворот, где стояли на карауле не солдаты, а граждане, для того что полки, составляющие здешний гарнизон, не возвратились еще со смотру. Толстый часовой, у которого под брюхом моталась маленькая шпажонка, подняв на плечо изломанное и веревками связанное ружье, с гордым видом сделал три шага вперед и престрашным голосом закричал мне: «Wer sind Sie? Кто вы?» Будучи занят рассматриванием его необыкновенной физиогномии и фигуры, не мог я тотчас отвечать ему. Он надулся, искривил глаза и закричал еще страшнейшим голосом: «Wer seid ihr?»[39] – гораздо уже неучтивее!{35} Несколько раз надлежало мне сказывать свою фамилию, и при всяком разе шатал он головою, дивясь чудному русскому имени. С италиянцем история была еще длиннее. Напрасно отзывался он незнанием немецкого языка: толстобрюхий часовой непременно хотел, чтоб он отвечал на все его вопросы, вероятно с великим трудом наизусть вытверженные. Наконец я был призван в помощь, и насилу добились мы до того, чтобы нас пропустили. – В городе показывали мне башню, в разных местах простреленную русскими ядрами.
В прусских корчмах не находим мы ни мяса, ни хорошего хлеба. Француженка делает нам des oeufs au lait, или русскую яичницу, которая с молочным супом и салатом составляет наш обед и ужин. Зато мы с италиянцем пьем в день чашек по десяти кофе, которое везде находили.
Лишь только расположились мы в корчме, где теперь ночуем, услышали лошадиный топот, и через полминуты вошел человек в темном фраке, в пребольшой шляпе и с длинным хлыстом; подошел к столу, взглянул на нас, – на француженку, занятую вечерним туалетом; на италиянца, рассматривавшего мою дорожную ландкарту, и на меня, пившего чай, – скинул шляпу, пожелал нам доброго вечера и, оборотясь к хозяйке, которая лишь только показала лоб из другой горницы, сказал: «Здравствуй, Лиза! Как поживаешь?»
Лиза (сухая женщина лет в тридцатъ). А, господин поручик! Добро пожаловать! Откуда? Откуда?
Поручик. Из города, Лиза. Барон фон М* писал ко мне, что у них комедианты. «Приезжай, брат, приезжай! Шалуны повеселят нас за наши гроши!» Черт меня возьми!
Если бы я знал, что за твари эти комедианты, ни из чего бы не поехал.
Лиза. И, ваше благородие! Разве вы не жалуете комедии?
Поручик. О! Ялюблю все, что забавно, и переплатил в жизнь свою довольно полновесных талеров за доктора Фауста с Гансом Вурстом.[40]
Лиза. Ганс Вурст очень смешон, сказывают. – А что играли комедианты, господин поручик?
Поручик. Комедию, в которой не было ничего смешного. Иной кричал, другой кривлялся, третий таращил глаза, а путного ничего не вышло.
Лиза. Много было в комедии, господин поручик?
Поручик. Разве мало дураков в Тильзите?
Лиза. Господин бургомистр с сожительницею изволил ли быть там?
Поручик. Разве он из последних? Толстобрюхий дурак зевал, а чванная супруга его беспрестанно терла глаза платком, как будто бы попал в них табак, и толкала его под бок, чтобы он не заснул и перестал пялить рот.
Лиза. То-то насмешник!
Поручик (садясъ и кладя свою шляпу на стол подле моего чайника). Um Vergebung, mein Herr! Простите, государь мой! – Я устал, Лиза. Дай мне кружку пива. Слышишь ли?
Лиза. Тотчас, господин поручик.
Поручик (вошедшему слуге своему). Каспар! Набей мне трубку. (Оборотясъ к француженке.) Осмелюсь спросить с моим почтением, жалуете ли вы табак?
Француженка. Monsieur! – Qu'est ce qu'il demande, Mr. Nicolas?[41] (Так она меня называет.)
Я. S'il peut fumer.[42] – Курите, курите, господин поручик. Я вам за нее отвечаю.
Француженка. Dites qu'oui.[43]
Поручик. А! Мадам не говорит по-немецки. Жалею, весьма жалею, мадам. – Откуда едете, если смею спросить, государь мой?
Я. Из Петербурга, господин поручик.
Поручик. Радуюсь, радуюсь, государь мой. Что слышно о шведах, о турках?{36}
Я. Старая песня, господин поручик; и те и другие бегают от русских.
Поручик. Черт меня возьми! Русские стоят крепко. – Скажу вам по приязни, государь мой, что если бы король мой не отговорил мне, то давно бы я был не последним штаб-офицером в русской службе. У меня везде не без друзей. Например, племянник мой служит старшим адъютантом у князя Потемкина. Он ко мне обо всем пишет. Постойте – я покажу вам письмо его. Черт меня возьми! Я забыл его дома. Он описывает мне взятие Очакова. Пятнадцать тысяч легло на месте, государь мой, пятнадцать тысяч!