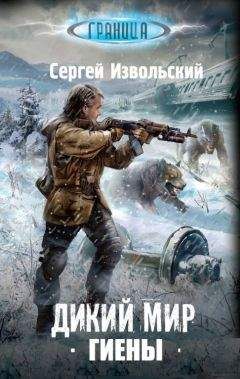Петр Боборыкин - Жертва вечерняя
Он мне рассказывал, что у римлян жрецы, которые говорили за оракулов, comme Calchas dans la belle Hélиne,[162] когда друг с другом встречались, не могли воздержаться от улыбки: так им было смешно, что их принимают за настоящих авгуров!
— Вот и мы с тобой римские авгуры! — смеется Домбрович.
Тут, впрочем, нет ничего особенно дурного. Все играют роль. Свет воображает, что обманывает и нас, а на поверку выходит, что мы над ним смеемся. Домбрович очень добр и снисходителен, он никого не уничтожает. Он говорит: "Все наши житейские глупости — необходимы".
И я это понимаю. Je deviens philosophe.[163]
Теперь моя неделя так набита, что время летит точно с экстренным поездом. Встаю довольно рано. Никогда не позднее одиннадцати. Зильберглянц мне посоветовал пить какао. Напившись какао, я занимаюсь солидно туалетом. Как это странно, что мужчина объяснил мне в первый раз, в чем заключается суть (Домбрович так выразился) уменья одеваться. Теперь я по туалету могу почти безошибочно сказать: сама ли барыня обдумывает свой туалет или ее одевает, как дуру, как купчиху, marchande de modes. И чем больше я говорю об этом с Домбровичем, тем больше я убеждаюсь, что наши барыни дурно одеваются. На двадцать женщин у одной, может быть, есть свой собственный вкус. Да и то, как бы это сказать: хорошенькие туалеты удаются им, по большей части, инстинктивно, случайно; а не то, чтоб по строго обдуманному плану. Это наука, если желаешь в малейшей детали сохранить общий колорит!
Я, правда, буду немного больше тратить на тряпки, но с толком и, главное, с удовольствием. Когда Домбрович похвалит меня за какую-нибудь отделку моей собственной выдумки, мне приятнее выслушать спокойный и всегда полунасмешливый его приговор, чем произвести блистательный эффект на большом бале.
В третьем часу я одета и еду "Христа славить". Визиты свои я делаю также по порядку и с выбором. Я не забываю никогда, что нужно разнообразить впечатления. Я умею теперь каждую барыню навести на такой пунктик, где бы она показалась во всей красе. Домбрович заходит ко мне до обеда не больше двух раз в неделю; а в остальные дни я заезжаю в гостиный, приказываю Федору ждать меня около перинной линии и отправляюсь пешком к Александрийскому театру, в переулок, как бишь он называется, такое смешное имя… да, вспомнила, Толмазов переулок. Там у нас комнатка en garnie.[164] Не скажу, чтоб очень изящная; но я ее полюбила. Всегда входишь во двор с некоторым замиранием. Звонка нет. Дверь в коридор постоянно открыта. До сих пор я не встретила ни одной фигуры. Я уж знаю, что он меня дожидается… Je suis d'une verve!..[165] Домбрович меня даже часто останавливает, чтоб я не так громко говорила. Он не забывает никаких предосторожностей. Такой милый!
Я ему сказала, однако ж, что надо бы нам устроить более удобное убежище и видаться иногда вечером. Он на это мне возразил очень дельно, что вечером я не могу уехать из дому, не возбудив подозрения… Разве по субботам после всенощной?.. Но все-таки неловко.
Покоримся. Я вижу, что при таком благоразумии никто ни о чем не почует. Обедаю я теперь позднее. Когда у меня Домбрович, я кого-нибудь зову, всего чаще Плавикову. Она тоже так меня лобызает, что даже трогательно смотреть.
Вечером мы встречаемся только в свете и не каждый день. Ни разу Домбрович не вошел в мою ложу. Да в опере он никогда и не бывает.
Так и катишься, как по железной дороге.
18 февраля 186*
Не так поздно. — Суббота
Я позволила себе шалость. Захотелось мне ужасно взглянуть на кабинет Домбровича, тот самый, где… Он и руками и ногами! Уговаривал меня целых два дня, а я все сильнее приставала.
— Хочу, хочу и хочу! И чтоб был опять завтрак с шампанским!..
В завтраке он мне наотрез отказал, представивши тот резон, что надо будет приказать человеку, а этого он допустить не желает. Я хотела было надуться; но смирилась и нашла, конечно, что он прав. В гостеприимстве без завтрака он мне не мог отказать. Очень уж я упрашивала, так ласкала моего старика, что он сдался!
Все было устроено с величайшей осторожностью. Я доехала до его квартиры в извощичьей карете с опущенным вуалем. Взошла на лестницу ровно в половине третьего. Он мне сам отворил. Ни одной души христианской не заметила! Увидала я кушетку и расхохоталась, вспомнивши, как я на нее злобствовала. Все мне в этом кабинете было точно свое, родное.
— Как видно, — сказала я Домбровичу, — что ты любишь искусство. У тебя больше atelier, чем кабинет.
— Да, мой друг, я все мои гроши кладу в это… У нас ведь в России разные профессора толкуют тоже об искусстве, распинаются за него, посылает их казна на свой счет в Италию, а зайди ты к ним в квартиру, и увидишь, что они живут коллежскими асессорами. У них на стенах суздальские литографии!..
Ну, не умница ли мой Домбрович? Я глупо делаю, что меньше теперь записываю его мудрые речи!
Опять на меня напала ужасная веселость в этом кабинете. Как бы я выпила шампанского!
— Отчего же у тебя так мало книг? — спросила я.
— Оттого, мой друг, что в многочитании, как и в многоглаголении, "несть спасения!".
Я подошла к шкапчику и отперла его.
— Ce sont des classiques?
— Oui, ma chиre…[166]
Я взяла со второй полки две маленькие старинные книжки в кожаном переплете. Смотрю заглавие: "Les liaisons dangereuses".
— Что это такое? — закричала я. — Дай мне это почитать. Это тоже классическое сочинение?
— Самое классическое! Бери…
Почитаю, на сон грядущий!
19 февраля 186*
До обеда. — Воскресенье
Какой он скверный… Почитала эту классическую книжку… Признаюсь, я еще в этаком вкусе ничего не читала. Были у Николая какие-то неприличности, даже с картинками, но он мне не давал.
Я нашла одну очень неглупую вещь.
Описывается какая-то скромница, une prude…[167] и по этому поводу говорится, что всякая prude отравляет любовь; c'est à dire: la jouissance.[168]
Я про себя скажу, что уважала бы собственную персону в тысячу раз меньше, если б лицемерила перед самой собой. Я не понимаю тех женщин, которые имеют любовников и целый день хнычут, каются в своих прегрешениях утром, а вечером опять грешат.
Правда, я ничем не связана, я никого не обманываю (кроме света), но если б даже у меня и был муж, я все-таки не вижу, во что нам драпироваться и как твердить ежесекундно, что мы всем пожертвовали человеку! А уж мне-то, в моем положении, было бы совсем нелепо ныть и представлять из себя страдалицу.
Чего мне еще нужно? Есть у меня молодость, хорошее состояние, полная свобода, везде меня ласкают, да вдобавок мой грешок никому не колет глаза и не требует от меня ни малейшей тревоги, не изменяет даже моих привычек.
Одни только истерические барыни могут себе надумывать страдания!
Сравниваю я, как меня любил Николай и как теперь со мною Домбрович. Тот был двадцатилетний офицер, этот сорокалетний подлеточек. А ведь какое же сравнение! С Домбровичем мне неизмеримо приятнее. Николай накупал мне разных разностей, пичкал конспектами; но не мог отозваться ни на мои вкусы, ни на мой ум… Он даже не обращал внимания на мое женское чувство.
Домбрович совсем не то. Только с ним я и начала жить. Что бы мне ни пришло в голову, чего бы мне ни захотелось, я знаю, что он не только меня поймет, но еще укажет, как сделать. Жить с ним не то, что с Николаем. Он изучает каждую вашу черту, он наслаждается вами с толком и с расстановкой. Он не надоедает вам кадетскими порывами, как покойный Николай. Сама невольно увлекаешься им… А в этом-то и состоит поэзия!
Если я обманываю свет, я, право, не должна каяться! В моих добродетелях свету нет никакой сласти. Ему нужно приличие. Я его не нарушаю. Всем гораздо приятнее видеть меня вдовой: и танцорам, и разным нашим beaux-esprits,[169] и старикашкам, и даже барыням. Я человек свободный, а только свобода и дает в обществе тот вес, которым дорожат. Танцоры знают, что вдовой я буду больше танцовать, beaux-esprits, что я буду больше врать с ними, старикашки также, а барыни, кто принимает, смотрят на меня как на шикарную женщину, знают, что на каждый бал, где я, притащится целая стая мужчин. Стало быть, и они не могут желать мне законного брака и многочисленного семейства.
Моя совесть совершенно спокойна. Голова не занята вздором, как прежде. Я не хандрю, не требую птичьего молока. Все пришло в порядок. Я начинаю любить жизнь и нахожу, что с уменьем можно весь свой век прожить припеваючи, как говорит Домбрович, "с прохладцей", и сделать так, чтобы любовные дела не требовали никаких жертв.
Домбрович мне обещал еще какую-то книжечку вроде этих Liaisons dangereuses.
— Еще более классическую, моя милая!..
Он любит поврать; но я — больше его. Это у нас в крови, у всех русских барынь.
Если бы я вздумала пуститься в сочинительство, я бы начала роман вроде этих "Liaisons dangereuses" и каждую из наших барынь поставила бы в курьезное положение по части клубнички, как выражается Домбрович.