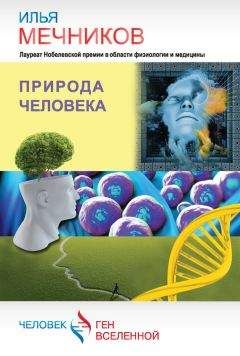Вячеслав Шишков - Пейпус-озеро
Звезды, действительно слиняли, небо над головами стало выцветать, восток бледнел, готовился вспыхнуть у краев, но запад сгущал тона, вбирая в себя остатки ночи. Все зыбко, изменчиво, предутренние краски затеяли едва приметную для глаз игру, нежно переливаясь одна в другую. А даль попрежнему незрима: предел ее - прильнувший к берегам туман.
Часы показывали 5 утра. Ноги давали себя знать даже привычным ходокам. У Павла Федосеича дрожали колени, от левой пятки прошивала до спины стреляющая боль. Он сдерживал стоны, но глаза его приняли плачущее выражение, зрачки стали расширяться. На востоке, глубоко под землей, разгорался пожар, и зарево, начинаясь у краев, все гуще, все выше заволакивало небо.
- Солнышко! - и Лука сел на снег.
Артель побросала клажу.
Сквозь разорвавшийся туман зловеще смотрела на путников темно-сизая бахрома эстонского леса, лес оказывал так близко, как будто люди только что начали свой путь, или он, не отставая, все время шел за ними следом, спрятавшись в ночной туман.
- Что ж ты, вожак... Сбились! - продрожал голосом похожий на мальчишку писарек Илюшин.
Артель с открытыми ртами растерянно смотрела в черную бороду Луки. Тот сердитым рывком выхватил из-за пазухи кисет и, вгрызаясь в задымившую трубку, уверенно сказал:
- Идем правильно. Это глаз лукавит.
* * *
Наверстывая потерянное на отдых время, артель ходко подавалась вперед.
Горизонты прояснялись.
Вдали чуть намечалась русская полоса лесов, за спиною которых серело родное небо.
- Как чувствуете себя, Павел Федосеич?
- Не спрашивай, Коля, - отмахнулся тот; согнутые в коленях ноги его сдавали, в груди наигрывало хриплое мурлыканье, он то-и-дело вскидывал голову и с резким шумом выбрасывал свистящую струю воздуха.
Далеко впереди, на гладкой, слегка вбугренной сугробами поверхности, ясно обозначилось темное и небольшое, с воробья, пятно. Двигаясь навстречу путникам, оно вскоре выросло в галку, потом в большого петуха и остановилось. Острые глаза Луки разглядели лошадь и трех закопошившихся на льду людей.
- Рыбаки, однако, - радостно сказал он.
- Слава богу! - облегченно передохнула вся артель. - Наши. Мужики.
Лука оглянулся назад, скользнул взором по эстонскому берегу, вдруг глаза его прищурились и засверлили даль:
- Погоня, - сдавленно и тихо, но как гирей по голове, ударил он по сердцам товарищей.
У Павла Федосеича упал с плеча мешок. С эстонской стороны на путников опять надвигался воробей, вот он вырос в галку, вот...
- Ребята! Беги к рыбакам! Пропали мы...
Рыбаки совсем близко, погоня тоже не дремала: игрушечная, с зайца, лошаденка, запряженная в сани, быстро росла.
- Помогай бог, братцы, - вразброд и путано закричала рыбакам артель. - Не погоня ли за нами, братцы?
- Она, - сказал широкоплечий белобородый рыбак. - А вы беглецы никак? Плохое дело. Перетрясут вас всех.
- Как перетрясут? - испугался Николай.
Первым движением его - немедленно сдать на сохранение рыбакам заветные золотые часы с кольцом - подарок поручика Баранова. Он быстро расстегнул свою новую американскую шинель, поймал цепочку, но в это время грох! - выстрел, путники переглянулись, рыбаки же хладнокровно продолжали свою работу.
Крутя хвостом, подкатила клячонка, двое быстро выскочили из саней, третий направил автоматку дулом к путникам и продолжал сторожко сидеть.
- Документы! - резко крикнул эстонец, обветренное с помороженным носом лицо его надменно мотнулось вверх. - Документы! Ну!
- Руки кверха! - вскинув револьвер, скомандовал другой, приземистый и кривоногий.
- Ой, приятели, да что вы, - заикаясь, жалобно проговорил Сидоров. Нет у нас документов, извините великодушно. Не знали мы.
- Стойте! Пошто вы забираете? - растерянно забасил Лука. - Ведь это втулки к колесьям... А это коса... В деревню несу, к себе. У нас дома нет ничего...
Перетрясли оба мешка Луки и свалили к себе в сани все его добро. Лука клял эстонцев, лез в драку, но каждый раз кидался в сторону от дула револьвера.
- Рыбаки! Вы-то чего смотрите?! - взывал он, хрипя.
Рыбаки долбили лед. Вялый и болезненный прасол Червячков стал раз'яренной кошкой: визжал, грыз насильникам руки, лягался, из его разбитого лица текла кровь.
- Ради всего святого! Это подарок... память о друге... - тщетно умолял Николай Ребров.
Перстень и часы, блеснув золотой рыбкой, нырнули в эстонский карман, как в омут. Отряд уехал. Николай дрожал и готов был разреветься.
- Плюнь, - подошел Сидоров. - Лишь бы живу быть.
Николаю не жаль ни перстня, ни часов, его мучило насилие, грубость, унижение человека человеком.
- Ах-ах-ах-ах, - бросили работу, враз заговорили рыбаки.
- Эх... Такую тяготу люди взяли на себя: народ на народ пошел, брат на брата, - душевно сказал старик-рыбак, он заморгал седыми, древними, в волосатых бровях, глазами и отвернулся.
- Откуда вы? - подавленно спросил Павел Федосеич.
- Мы на чухонском берегу спокон веку живем. Теперича вроде ихнего подданства. А так - православные хрестьяне.
- Не мешкайте, ребята, шагайте попроворней, - сказал кривошеий рыбак и указал рукой: - На перекосых идите, во-он туда!
Беглецы пошли.
* * *
Плечам легче, но сердцу и ногам трудней.
- Беда, - кто-то вздохнул, кажется все вздохнули, все вздохнуло: небо, воздух, лед.
Шли, шли, шли. И вдруг Лука на лысом месте, как с размаху в стену:
- Братцы!.. Глянь-ка!
Под вскореженным сизобагровым льдом вмерзли в его толщу скрюченные нагие тела людей.
Лука сплюнул, задрожал:
- Ой, ты!.. Идем, идем...
И, как от заразы, отплевываясь и крестясь, всем стадом дальше. Шли молча, содрогаясь: над ними и сзади волною темный страх.
Прошагали версту-две. Отставший Павел Федосеич споткнулся, упал:
- Эй, Коля!.. Сидоров! - Картина... картина, полюбуйтесь, - кряхтел чиновник, стараясь подняться.
Из льда, пяткой вверх, торчала обглоданная человеческая нога. Прутьями висели оборванные сухожилья. Кругом лед сцарапан в соль когтями волков. Сидоров и Николай подняли чиновника и стали нагонять артель. Павел Федосеич задыхался.
Слева, из обрезанного ветром сугроба высовывались человеческие кости, лоскутья одежд и, как спелый арбуз, лоснящийся затылок черепа.
- Да тут кладбище, - простонал чиновник.
- Братцы, что же это! - косоплече шагая, кричал артели Сидоров. - Людей-то сколько полегло.
- А ты взгляни, на чем мы стоим, - озябшим голосом проговорил бородатый Мокрин и ударил пяткой в лед.
Сквозь ледяной хрусталь виднелась вцепившаяся в край замерзшей проруби белая рука. В судорожном изломе она уходила вглубь, и желтоватым расплывчатым призраком едва намечалось утянутое под лед тело.
- Идем, - густо сказал издали Лука. - А то и мы к ним угодим.
- Едут!
- Едут!!
- Едут!!
Вдали от эстонского берега, на белой глади, опять зачернела букашка. Путники бросились вперед, роняя фразы, как гибнущий воздушный шар мешки с песком.
- Господи, пронеси... Господи, не дай загинуть.
Мартовский день склонялся к вечеру. Солнце глядело спокойно и задумчиво. Большие пространства снега, казалось, прислушивались к его лучам и жмурились от света. День был безморозный, тихий. Кой-где над полыньями шел парок.
Когда отрывисто щелкнул, как пастуший кнут, выстрел, лед раздался и сжал клещами сердца и ноги беглецов. Опять с саней соскочили двое в овчинных куртках - старик и подслеповатый, с птичьим лицом, юнец. Третий с ружьем в санях.
- Нас уже обыскивали, - сказал Николай, - и отпустили на родину.
- Все отобрали от нас, - сказал Лука.
- Нет, не все, - гнилозубо проговорил седоусый, глаза его подлы, он посасывал трубку тонкими бледными губами. - Раздевайтесь. - Мгновенья полной тишины, только вздохнула лошадь. - Раздевайтесь! Ну!!
И еще - немые окаменелые мгновенья.
Но вот задвигалась косматая борода Луки, задвигались губы, а слова не шли. Сзади заревел в голос Павел Федосеич, глядя на него завыл Червячков. Лука кашлянул, мотнул головой, снял шапку, стал часто, в пояс, кланяться:
- Кормильцы, сударики... Мы не господа какие-нибудь, не баре... Трудящиеся мужики все.
Седоусый круто к саням и свистнул. Мелькая белыми, выше колен валенками, зашагал от саней с револьвером в опущенной руке поджарый, длиннолицый эстонец.
- А, чорт, куррат!.. - прошипел он. - Моя, что ли, раздевать вас будет?.. Роду-няру... Сволочь... Ну!
Беглецы враз на колени, заплакали:
- Это смерть нам, смерть...
Павел Федосеич с Червячковым переползали от эстонца к эстонцу; скуля и взахлеб рыдая, они целовали эстонцам сапоги, их посиневшие руки крючились от холода.
- Сажайте нас в тюрьму! Не убивайте, пощадите, - последним своим визгом покрывали они весь ужас голосов.
Грабители тоже кричали: - Смирна! Смирна! - ругались, пинали сапогами, пятились к саням.
Корявое лицо Трофима Егорова покрылось испариной. Он и бородатый Мокрин тряслись от гнева. Лука сжимал кулаки. Мокрин лихорадочным взором искал, чем бы оглаушить палачей. Он передернул широкими плечами, ухнул и с сиплым криком: