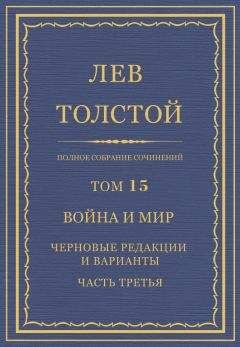Лев Толстой - Полное собрание сочинений. Том 14. Война и мир. Черновые редакции и варианты. Часть вторая
Он удерживался и все-таки думал.[594]
Он[595] вызывал в себе тот ряд мыслей, которые бывали у него прежде, но ничего похожего не шевелилось в нем. «Чего ж я хочу? — спрашивал он сам себя. — Славы, власти над людьми? Нет, зачем? Я бы не знал, что с нею делать. Не только не знал бы, что делать, но знаю наверно, что людям ничего нельзя[596] желать, ни к чему стремиться».
Он посмотрел на воробьев, слетевших роем с забора на выгон.[597] «Что ж они (люди)[598] могут решать? Всё идет по тем вечным законам, по которым этот воробей[599] отстал от других[600] и подлетел после.[601]
Так чего ж я хочу? Чего? Умереть, чтоб меня убили завтра?[602] Чтоб меня не было, чтобы всё это было, а меня бы не было?»
Он живо представил себе отсутствие себя от этой жизни с плетнем (он отломил палочку) и дымом котлов, и мороз подрал его по коже. «Нет, я этого не хочу, я боюсь[603] еще чего-то. Чего же я хочу?[604] Ничего, но живу, потому что не могу не жить и боюсь смерти».
«Вот эти все, — думал он, глядя на двух солдат, которые, стоя у пруда[605] голыми ногами в воде, вытягивали с бранью друг у друга доску, на которой они хотели стоять, чтоб мыть белье. — Вот эти и этот офицер, который так доволен, что прискакал верхом — чего они хотят, из чего хлопочут? Им кажется, что и эта доска, и эта его лошадка, и это будущее сражение, что всё это очень важно, и живут... И там где-то моя княжна Марья и Николушка тоже боятся, хлопочат и бог знает, кому лучше: им или мне? И я, так же, как они, недавно еще верил во всё. Как же я делал поэтические планы о любви,о счастии с женщинами. — О, милый мальчик! — с злостью вслух проговорил он. —Как же! Я верил в какую-то идеальную любовь, которая должна была мне сохранить ее верность за целый год моего отсутствия. Как нежный голубок басни, она должна была зачахнуть в разлуке со мной и не полюбить другого. Как же я боялся того, что она зачахнет с тоски по мне».
Краска бросилась ему в лицо, он встал и начал быстро ходить.
«А всё это гораздо проще. Она — самка, ей нужен муж, первый самец, который встретился и стал хорош для нее. И непонятно, как можно не видеть такую простую и ясную истину. Отец тоже строил в Лысых Горах и думал, что это — его место, его земля, его воздух, его мужики, а пришел Наполеон и, не зная об его существовании, как щепку с дороги, толкнул и развалил его Лысые Горы и всю его жизнь. А княжна Марья говорит, что это — испытанье, посланное свыше. Для чего же испытанье, когда его уж нет и не будет? Никогда больше не будет. И я буду думать, что мне послано испытанье. Очень хорошо — испытанье. Что это меня готовит к чему-то. А завтра меня убьет — и не француз даже, а свой, как вчера разрядил солдат ружье около моего уха, и придут французы, возьмут меня за ноги и за голову и швырнут в яму, чтоб я не вонял им под носом, а завтра придут в Москву и, как в Смоленске, поставят лошадей в собор, а на раку святителя насыпят овса и сена и лошади будет очень покойно... Кому же это испытание? Испытание человеку, который всё не понимает того, что над ним смеются. Глупо, когда не понимаешь, мерзко, когда понимаешь всю эту шутку».
Он[606] вошел в сарай, лег на ковер, закрыв глаза, перестал ясно думать. Одни образы сменялись другими. На одном на чем-то он долго, радостно остановился, когда его развлек какой-то близко знакомый, пришепетывающий голос, говоривший за сараем:
— Да я и спрашивал не Петра Михайловича, а князя Андрея Николаевича Болконского.
Князь Андрей пропустил мимо ушей этот голос и стал спрашивать себя, о чем он так долго и радостно думал. О чем последнем? Да, вот о чем:
«Я вошел в заднюю дверь нашей комнаты. Она (Наташа) сидела перед трюмо и чесала волосы. Она услыхала мои шаги и оглянулась. Оглянулась, держа пряди волос в руке и прикрывая ими румяную, свежую щеку, и смотрела радостно-благодарно на меня. И я был ее счастливый муж, и она была, да, Наташа. Да... Да, в эти самые щеки, в эти плечи,[607] может быть, целовал ее этот человек.[608] Нет, нет, никогда, видно, никогда я не прощу, не забуду этого».
Князь Андрей почувствовал, что слезы душат его. Он[609] приподнялся и перевернулся на другой бок.
«И могло, могло этого не быть. Нет, я одно хочу, хочу еще. Это — убить этого человека и видеть ее.[610] И зачем он не женился на ней? Он не удостоил ее. Да, то, что для меня — верх моих желаний, для него — презренно. Так, их есть царство земное. Что же мое?..... Что-то есть и все-таки не хочу я быть ими».[611]
В входной двери послышались шаги и голоса. Он знал, что это были батальонные командиры, которые шли к нему пить чай, но кроме их был знакомый голос, который сказал:
— Que diable![612]
Андрей оглянулся. Это был Pierre, который в своей пуховой шляпе, входя вместе с офицерами, не нагнулся и стукнулся головой о жердь, остававшуюся сверх ворот сарая.
Pierre с первого взгляда на своего друга заметил, что, ежели он переменился с последнего их свидания, то только в том, что за это время он еще дальше ушел на том пути мрачного озлобления. Андрей с насмешливой и скорее неприязненной улыбкой встретил Безухова.
Князю Андрею вообще неприятно было видеть людей теперь из своего мира, в особенности же Pierr’а, с которым он почему-то чувствовал необходимость всегда быть откровенным и еще более потому, что вид Pierr’a напоминал ему живее всего их последнее свидание и угрожал ему повторением тех объяснений, которые были при последнем свидании. Князь Андрей, сам не зная почему, испытывал неловкость смотреть ему прямо в глаза (неловкость эта тотчас же передалась Pierr’у) и боялся остаться с ним с глазу на глаз.
— А, вот как, — сказал он, подходя к нему и обнимая его. — Какими судьбами? Очень рад.
Но в то время, как он говорил это, в глазах его и выражении всего лица была больше, чем сухость, была враждебность, как будто он говорил: «Ты — очень хороший человек, но оставь меня, мне тяжело с тобою».
Последнее свиданье их было в Москве, когда Андрей получил письмо Ростовой.[613]
— Mon cher. Я[614] приехал.... Так..... знаете... приехал... мне интересно, — сказал Pierre, краснея. — Полк мой еще не готов.[615]
— Да, да, а братья масоны что говорят о войне? Как предотвратить ее? — сказал Андрей.[616]
— Да, да...[617]
— Ну, что Москва? Что мои? Приехали ли, наконец, в Москву? — спросил князь Андрей.
— Не знаю.[618] Жюли Друбецкая говорила, что она получила письмо из Смоленской губернии.
— Не понимаю, что делают. Не понимаю.[619] Войдите,[620] господа, — обратился он к офицерам, которые, увидав гостя, замялись у входа в сарай. Впереди офицеров был Тимохин с красным носом,[621] который хотя теперь за убылью офицеров был уже батальонный командир,[622] был такой же добрый и робкий человечек.[623] За ним вошли адъютант и казначей полка. Они были грустны и серьезны, как показалось Pierr’у. Адъютант почтительно сообщил князю, что в один батальон не достало калачей, присланных из Москвы. Тимохин тоже что-то передал по службе.[624]
Раскланявшись с Pierr’ом, которого князь Андрей назвал им, они разместились на полу вокруг поданного самовара, и младший из них занялся разливанием. Офицеры не без удивления смотрели на толстую громадную фигуру Pierr’а и слушали его рассказы о Москве и о расположении наших войск, которые ему удалось объездить. Князь Андрей молчал, и лицо его так было неприятно, что Пьер уж обращался более к добродушному батальонному командиру Тимохину.
— Так ты понял всё расположение войск? — перебил его князь Андрей.
— Да, то есть как? — сказал Пьер, — как невоенный человек, я не могу сказать, чтобы вполне, но все-таки понял общее расположение.
— Eh biens, vous êtes plus avancé que qui cela soit,[625] — сказал князь Андрей.
— То есть как? — сказал Pierre, с недоумением через очки глядя на Андрея.
— То[626] есть, что никто ничего[627] не понимает,[628] как и должно быть, — сказал князь Андрей.
— Да, да, — отвечал он на удивленный взгляд Pierr’а.[629]
— То есть как же ты это понимаешь. Ведь есть же les lois.[630] Ведь, например, я сам видел, как на левом фланге Бенигсен нашел, что войска стоят слишком далеко назади для взаимного подкрепления и выдвинул их вперед.
Князь Андрей сухо, неприятно рассмеялся.
— Выдвинул вперед корпус Тучкова, я был там, я видел. А ты знаешь, зачем он выдвинул? А затем, что глупее этого уж ничего нельзя сделать.