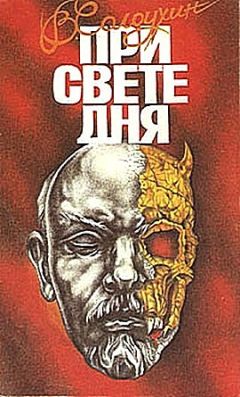Владимир Солоухин - Камешки на ладони
Существует так называемый критерий Тьюринга (английский математик). В изоляции друг от друга находятся два собеседника. Если один из них (живой человек) не может распознать в своем собеседнике кибернетическое устройство, значит, у человека перед компьютером нет, в сущности, никаких преимуществ.
Некоторые физики, основываясь на критерии Тьюринга, наталкивают нас на вывод, что живая литература скоро будет не нужна и что машины будут писать рассказы лучше, нежели живые писатели.
Может быть, и правда нельзя отличить живого собеседника от кибернетического, если обсуждать математические закономерности или литературные произведения, несущие в себе только информационную функцию.
А если спросить у собеседника, когда он последний раз плакал или смеялся? По какому случаю? Жалко ли ему Грушницкого? Каренину? Симпатизирует ли он Раскольникову? За какой идеал он способен пожертвовать собой? На что он готов ради любви? Ради матери? Болит ли за что-нибудь у него душа?
Мне кажется, при таком характере разговора изобличить механического собеседника не так уж трудно.
* * *Художник в подмосковном городке зазвал меня к себе в мастерскую и стал показывать работы. Ему за шестьдесят. Значит, все, что можно было сделать, уже сделано. Ординарные, нетрогающие пейзажи. И вдруг одна работа по колориту, по живописи, по сочности, даже по сюжету резко выделилась изо всех остальных. Сюжет простенький: на весеннем припеке среди поля оттаивает куча навоза. На ней – обогретые солнцем куры. Но что за куры! И что за навоз! И что за дали весенние еще под снегом!
Мне показалось странным, как можно в одной работе так резко уйти от остального. Я только и любовался курами, а художник мрачнел.
Оказывается, этих кур он скопировал с чужой (немецкой, кажется) картины.
Но сумел же он ее написать! И краски нашлись, и сочность, и живость. Говорили даже – и я этому верю, – что у него получилось даже лучше, чем в оригинале, где было все сентиментально, засахарено. Чего же самому-то ему не хватило, чтобы дойти до этих кур? Ясно, чего – таланта. И вот ведь, оказывается, какая малость этот талант. Трудно ли было догадаться? Близко, а не возьмешь.
* * *Делались в старину такие коралловые крестики со стеклышком в перекрестке. Стеклышко со спичечную голову, а посмотришь в него – и увидишь обширную картину, дуб мавританский, гору Фавор, целый Иерусалим.
Такую же роль волшебного стеклышка играют иногда в поэзии и прозе некоторые детали. Штрих, точечка, пустячок, но сразу раскрывается внутренний мир героя, его судьба или даже время. Например, не помню уж у кого, предвоенный паренек засыпает в гостях на раскладушке: «А раскладушки тех времен похожи были на носилки».
* * *В ранней юности я любил Лермонтова и жил в атмосфере его поэзии. Потом был Пушкин. Точно так же я прошел через поэзию Маяковского. Открыл для себя Тютчева, Фета. Были периоды Багрицкого, Пастернака, Мартынова, Уитмена, Превера… И разумеется – Блок.
Теперь с годами (и зрелостью?) я уже не могу находиться и жить хотя бы некоторое время в атмосфере одной чьей-либо поэзии. Теперь я просто люблю хорошие стихи у самых разных поэтов.
* * *Время течет и вымывает из памяти сначала наиболее легкие впечатления, а потом добирается до основных и тяжелых. Конечно, самое золотое остается на дне и, может быть, даже не шелохнется, но хорошо, когда оно предстанет постороннему взгляду в оправе сопутствующих ему, пусть и легковесных впечатлений. Одно дело стройный и четкий пшеничный колос, а другое дело – кучка пшеничных зерен.
Из публикации в журнале «Новый мир»
«Слово о полку Игореве».
С тех пор как я понял, что передо мной подлинная поэзия, отпала необходимость сомневаться в подлинности произведения. Я не могу сказать, что постоянно читаю и перечитываю «Слово о полку Игореве», но я постоянно живу с образами, навеянными им, – с образом Ярославны на городской стене, с образом заречных далей, видимых с городской стены, с образом острошлемой дружины, с образом холмов, за которыми осталась Русь… Тут точка соприкосновения (как и в моей душе) славянской бревенчатой оседлости с волей степных кочевий. Кончак и сами половцы никогда не вызывали у меня неприязни, а тем более ненависти… Когда я впервые увидел настоящие степи, я понял, что видел их раньше, что знал их всегда.
Как один взрыв посредством детонации вызывает другие взрывы, так детонируют и произведения искусства. Все стихи Блока о поле Куликовом исторически навеяны Куликовской битвой, а литературно, преемственно – «Словом о полку Игореве».
Кого только не прочили в авторы «Слова…» – и разных князей, и Ярославну, и даже самого Игоря. Но ведь поэзия тогда была не письменной, а устно-песенной, гуслевой. Тогда было четкое разделение – кому землю пахать, кому мечом махать, кому песни петь, кому пером скрипеть. Перьями скрипели монахи, летописцы в монастырях. Они были тогда единственные писатели-профессионалы. Отчего же не предположить, что именно у писателя-профессионала обнаружился и вспыхнул ослепительной вспышкой могучий поэтический талант. Плюс активное национальное самосознание. Ведь обладал же чуть позже активным гражданским и национальным самосознанием другой монах – Сергий Радонежский. И разве первые же строфы «Слова…» не говорят о том, что за дело взялся писатель-профессионал, то бишь летописец? «Не лучше ли нам было бы, братие…» Братией, как известно, называют монахи свое монастырское сообщество. Автор противопоставляет себя и свой труд песнярам-гуслярам. В изложении это может выглядеть так:
«Где уж нам угнаться за поэтами, за каким-нибудь там Бояном. У них воображение ширяет сизым орлом по поднебесью, рыщет серым волком по земле, летает белкой по дереву, он, Боян, как положит персты на струны, так словно соколов выпустит на стаю лебедей. А мы уж по-нашему, по-старинному, скромненько, не мудрствуя лукаво… Где уж нам состязаться с Бояном… Нам не песни петь, а перышком скрипеть…»
И наскрипел своим перышком великую песню.
* * *В Ургенче за узбекским национальным семейным столом, где мы и пили, и ели, и слушали узбекские песни, у меня в голове зародился странный вопрос: вот проходят века, сменяются поколения, изменяются внешние условия жизни. Почему же они из поколения в поколение остаются узбеками?
Конечно, гены. Но на первом ли месте? Разве мы не знаем вполне обрусевших иностранцев: Даль – из датчан, Брюллов – из немцев, предки Лермонтова – выходцы из Шотландии, да и Пушкин писал, хотя и в шутку: «…под небом Африки моей». С другой стороны, дети русских эмигрантов во Франции (особенно в третьем поколении) офранцуживаются и фактически перестают быть русскими. Где же те силы, которые питают национальный дух и делают русского русским, узбека узбеком, а немца немцем? Природа? Среда обитания? Вообще среда? Язык? Предания? История? Религия? Литература и вообще искусство? И что тут стоит на первом месте? Или, может быть, просто воспитание при действии всех выше названных сил?
* * *У человека перед животными (и птицами) множество преимуществ. Способность к анализу и синтезу, к отвлеченному мышлению, к искусству и прочая и прочая. Но у животных и птиц все же есть одно замечательное преимущество перед людьми: они никогда не делают глупостей.
* * *Как цветок расцветает на черной земле (чтобы не сказать – на навозе), так стихотворение может родиться из прозаического, а то и не очень приглядного факта. У нашего великого поэта Пушкина можно найти множество тому подтверждений. Факт был прозаический, а импульс в душе он породил – чистейший цветок. Вот только два примера. Описание Бахчисарайского фонтана: «В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слыхал о странном памятнике влюбленного хана. К** поэтически описывала мне его, называя La fontaine des larmes (фонтаном слез. – В.С.). Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавленной железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевает…»
А какие из этого вышли стихи?
Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.
Твоя серебряная пыль
Меня кропит росою хладной:
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!
Журчи, журчи свою мне быль…
Второй пример – посещение калмыцкого жилища во время путешествия в Арзрум. Напомним:
«На днях посетил я калмыцкую кибитку… Все семейство собиралось завтракать; котел варился посередине, и дым выходил в отверстие, сделанное в верху кибитки. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле нее. «Как тебя зовут?» – «***». – «Сколько тебе лет?» – «Десять и восемь». – «Что ты шьешь?» – «Портка». – «Кому?» – «Себя». Она подала мне свою трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь это заесть. Мне дали кусочек сушеной кобылятины; я был и тому рад. Калмыцкое кокетство испугало меня; я поскорее выбрался из кибитки и поехал от степной Цирцеи».