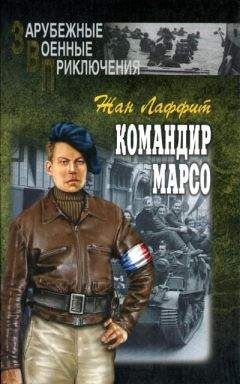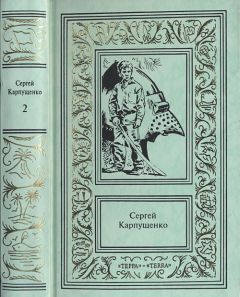Сергей Залыгин - Комиссия
И тогда мечтает она о желанной какой-то встрече — так уже только на том свете, на этот свет ей надеяться не приходится.
Пахота — это же не один только труд и работа, это судьба и доля человеческая.
Пахота — не только судьба и доля человеческая, это еще и указ природы человеку.
И покуда человек природного указа держится, следует ему — до тех пор будет известно, что такое жизнь людская; забудется указ, и неизвестно станет о человеке ничего — кто он, что он, зачем и почему. И заблудится человек в неизвестности.
Устинов Николай блудить в неизвестности не хотел и потому, наверное, отменным был пахарем. Об этом его мастерстве и умении не все в Лебяжке и знали, это ему было всё равно, он сам про себя знал: легко идет у него пашня, славно ложится у него пласт, на вид нет особенного, работа как работа, но там, где другой давит на плуг всею грудью и телом, ему довольно принять эту тяжесть на одну только правую или левую руку.
Это припомнить, так года с тысяча девятьсот пятого, с разнесчастной японской войны, лебяжинцы побросали сохи, понакупили плуги Сака.
Но с тех пор многие побросали уже и те самые первые свои приобретения — не смогли выбрать орудие сразу, чтобы шло к рукам и коням, к своей землице. Не было привычки, вот и не смогли.
А Устинов тот раз не стал торопиться, прожил при складе сельхозмашин и орудий датчанина Рандрупа неделю, неделю и примеривался к плугам, слушал объяснения инструктора, глядел, кто и как из покупателей-мужиков тут же, поблизости от склада, гонит пробную борозду, и сам прогнал этих борозд не один десяток. После сказал: «Вот этот плужок будет мой!» И действительно, это и был тот единственный плуг системы Сака, который своей хотя и железной, а все-таки природой предназначался Устинову Николаю, а больше никому.
Конечно, самая главная пахота — это по весне.
Боже ты мой, кто только не напрашивается в помощники к весеннему пахарю, не льнет к нему, не спешит в его борозды?!
И грач, и ворона, и скворец, и мышка полевая торопится по самому донышку борозды, тыкается пуховым рыльцем туда-сюда, а над тем очумелым от яркого света мышонком уже вьется ястребок — гляди, не зевай, земная тварь! — и собственной песней день-деньской и сыт и пьян вверху жаворонок, а птичка-трясогузка то бежит-бежит вслед за пахарем, а то облетит его стороной и, вроде как махонькая лошадка на бегах, мчится впереди упряжки, оглядывается, трепыхает гузкой и хвостиком, поторапливает пахаря и коней за собою.
О земляном червяке, букашке-таракашке говорить нечего — эти борозду полнят гуртом, не различаясь породой, порода у всех у них в то время одна весенняя. И только позже, когда подсохнет на солнышке пашня, все они одумаются, расползутся, кому куда положено — одни в глубь земли, другие на земляной верх.
После одумается и сам пахарь, а поначалу так и с ним случается дурман.
У Николая Устинова дед был — звали Егорием, — тому необходимо, бывало, хотя бы час походить за сохой в нагом виде.
Над ним и в ту далекую, еще темную пору посмеивались, называли Егорием-бесштанным, он не унимался: «А ежели душе и телу требуется? Ежели, покуда я их не ублажу, оне мне покою не дають — тогда как?»
А пахарь был знаменитый и в любой работе жалел коней, самого же себя много позже после них.
Внуку объяснял: «Робить надоть, Николко, ровно как за столом исти. Это одно и то же, только и разницы что исти — в себя, а робить — из себя. И одно другому должно быть одинаково — как съел, так и сробил! Потому ешь покудова в брюхо лезет, а работай — чтобы сил оставалось сапоги снять. Может, и не два сапога, а на один только останется у тебя сил — энто даже лучше. Тогда ты уже свят-человек: всё исполнил, сколь мог, сколь дадено тебе от бога силы, и теперича ни одна забота не имеет возможности к тебе пристать, подступиться!»
Этим егориевским словам Устинов не то чтобы всегда следовал, но помнил их.
Пахота к этому располагает — покуда пройдешь одну, другую, сотую, а потом — тысячную, а за многие-многие годы, может, и десятитысячную борозду — чего только не передумаешь, чего не вспомнишь?
На поворотах, правда, нельзя думать головой, надо думать руками, чтобы огреха не было, чтобы коней лишний раз не дергать, а поворачивать их плавно, будто лодку кормовым веслом, чтобы конец одной борозды или начало другой не получились бы мелкими, так что вместо хлеба, радуясь твоему неумению, взойдет здесь один только сорняк-жабрей, и чтобы не запороть плуг слишком уж глубоко, так что задним ходом его только и можно высвободить из земли.
На поворотах ты ничего не видишь — ни ближней дороги, ни дальнего неба, а видишь коней, как, тесня друг друга ребрами, они берут то ли вправо, то ли влево, видишь плуг, как, лежа на лемехе, он развертывается следом за конями, а тебе надо точно схватить миг и поставить его на работу, чтобы и быстро и плавно, и не мелко и не глубоко он внедрился в землю… Всё в ту поворотную минуту в тебе занято, собственные печенка и селезенка, и сердце в груди, и мозг в голове как бы тоже кренятся набок, норовят тебе помочь, проявляют свое старание и умение — пользуйся ими! Не зевай!
Поворот и заезд из борозды в борозду — это как бы маленькая, но тоже поворотинка жизни, ведь и в жизни так же: гонишь и гонишь свою борозду, а настал миг — требуется от тебя поворот, и вот уже неизбежно то, что было справа от тебя, вдруг является с левой руки, а что было спереди, то теперь сзади…
Миновал поворот, вошел ты в борозду — а любы пахарю длинные борозды! и вот уже руки делаются у тебя спокойными, сердце определяется на свое место, и голова тоже берет свое — занимается мыслями…
Мыслями о том, какой должен быть урожай, почем будет пшеница за пуд, почему в эту войну немцы били русских, тогда как раньше бывало наоборот, почему птица летит, взмахивая крыльями, а вот аэроплан крыльями не машет, а тоже летит…
Мысль ложится к мысли вплотную, как борозды твоей пашни. И сам ты весь тоже повернут к свету и к солнцу, тоже обнажен и вспахан и готов принять в себя весь белый свет.
Нынче время осеннее, заморозки уже были, иней были, снежок был, а вот зимы не было, не торопилась зима со своим приходом, и в обед солнышко грело землю аккуратно каждый день, пашня отходила от ночных заморозков и, усталая, принималась дышать. Устинов предполагал, что в этакие часы он сможет ее попахать, сдвоить летний пар. Это хорошо, когда бы удалось: по летнему пару у него пошел сорнячок, жабрей, молочай, и, само собою, не обошлось без лебеды, вот сейчас бы их и подрезать, запахать, а тогда пашня будущего года стала бы у него чистенькая, в баньке мытая — высевай по ней сортную пшеничку — ничто ей не помешает…
Ему бы нынче же сдвоить загонки две-три, и назавтра — тоже две-три, и послезавтра — две-три, ну и еще избушку бы новую поставить — вот чего ему хотелось, по чему стосковались и душа и руки. О чем он мечтал.
Вот он и подъехал к избушке своей: оконце стеклянное выбито, из дырки торчит тряпица, между венцами — темные щели, дверь повисла на одной петле, скособочилась.
Срам и позор! Да что же за хозяин у этой избушки, у этой пашни? Сукин он сын, если только он есть на свете, лодырь он и мерзавец, позор всему крестьянскому сословию, всему честному и рукодельному человечеству! Ему одно-единственное только могло быть оправдание — если его нету уже в живых! Ну, еще — если он далеко где-то воюет с другими людьми, с такими же, как сам он, работниками, вот им всем и недосуг навесить как следует двери на своих жилищах!
Так ведь он же — вот он, бесстыдник, живехонек. С руками, с ногами и даже с головой! Верно что — срам и стыд!
Тихо было кругом…
Откуда-то издалека прилетали к Устинову звуки — подует ветерок, и вот они; ветер погас, звуки тоже гаснут, как бы навсегда.
Ну, здесь, в этой местности, на этой земле, ничего не могло быть для Устинова неизвестного, и он тотчас, не зная, а только слыша, понял: где-то в южной стороне, вдали, ходят по кругу кони, наверное, четверо сразу гоняют привод, от привода с треском крутится барабан молотилки-трещотки. Бабы вернее всего, две, а может быть, и одна — управляются, повязавши голову полотенцем, чтобы пылью не так уж забивало лицо и волосы, отгребают полову и солому граблями, а сам хозяин, тоже в полотенце, подает растрепанные снопы с полка в барабан.
Это и есть главное умение в молотьбе: сноп нужно подать равномерно, чтобы барабан шел без перегрузки и без холостого разгона, подать колосом на зубья, но ухо держать востро: вместе с колосьями тебе очень просто может смолотить палец, а то и два сразу. Недаром с тех пор, как пошли в крестьянстве молотилки, беспалых сибиряков стало заметно больше.
Ну, слава богу, наконец-то он один, Устинов! Наконец-то! Дождался! А то всё вокруг него люди, а когда люди — значит, всяческий дележ — дележ леса, дележ любого дела, потому что, если двое, а не один делают что-нибудь, уже надо заранее разделиться: вот это делаю я, и вот так, а это и вот этак — ты; дележ слов: один сказал, а другой уже повторить то же самое не может, не имеет права, но промолчать ему нельзя, значит — надо искать другие слова: дележ воздуха: один говорит и, вот как Игнашка Игнатов, дышит при этом прямо в рот другому, и приходится с таким пространство делить, отодвинуться на шаг; дележ всякого срама: один избушку свою запустил, забросил, развалилась она, и, кажется, это его дело, никого больше не касается, но так только кажется — появись тут другой человек, и невольно будешь думать: а он-то, тот, другой, появившийся, что о тебе, о таком вот хозяине, думает?