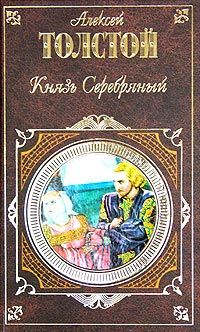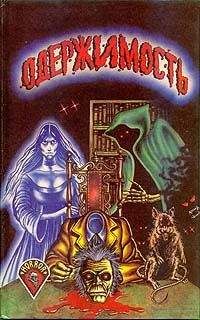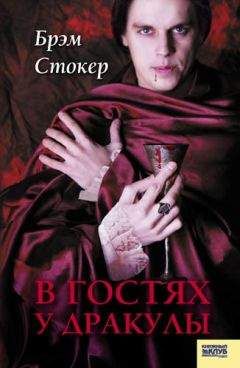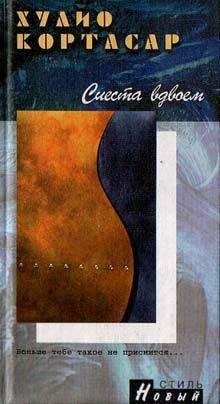Р.... - Упырь на Фурштатской
— Да.
— Как же он мог послать вас ко мне и зачем?
— Он мне сказал: Анна! что ты ко мне пристала, отвязаться не хочешь? У меня ничего уже нет, я сумасшедший и скоро умру. Ты не имеешь больше права меня мучить. Иди к другим! Я спросила: Вася, куда же я пойду? Я никого кроме тебя не знаю. Он ответил: ступай в квартиру, где мы с тобой жили; там есть Алексей Леонидович Дебрянский; он тебя примет.
Это походило на ложь: откуда бы Петрову знать, что я занял его бывшую квартиру? А говорит — точь в точь не очень памятливое дитя отвечает урок: ровно, и с растяжкою, каждое слово само по себе, — совсем капель из желоба: кап… кап… кап…
— Что же вам угодно? повторил я, но, оглядев ее хрупкую фигурку, невольно прибавил: — прошу вас садиться, и не угодно ли вам чашку чаю? Кажется, вам не лишнее согреться. Я бы даже посоветовал вам прибавить вина или коньяку.
Иззябла она ужасно: зеленое лицо, синие губы, юбка в грязи и мокра по колено. Видимое дело: издалека и пешком.
Она молча опустилась на стул. Я подал ей чашку. Она выпила залпом, кажется, не разбирая, что пьет.
Чай с коньяком согрел ее; губы стали алыми, янтарные щеки подернулись слабым румянцем. Она была, действительно очень хороша собою. Мне хотелось видеть ее глаза, но ее ресницы только дрожали, а не поднимались. Всего раза два сверкнул на меня ее взгляд, острый и блестящий, да и то исподтишка, искоса, когда я отворачивался в сторону. Зато, кусая хлеб, она обнаруживала превосходные зубы — мелкие, ровные, белые.
После странных откровенностей моей гостьи относительно Петрова, она начала мне казаться и в самом деле «мамзюлькой», которую отправил на все четыре стороны охладевший любовник… и я был не в претензии на Петрова за новое знакомство, хотя продолжал недоумевать, зачем направил он ко мне эту молчаливую особу.
Так что, в третий раз, что ей угодно, я не спросил, сделался очень весел и решился — раз судьба посылает мне романическое приключение — извлечь из него как можно более интересного…
Я не из сентиментальных ухаживателей и, когда женщина мне нравится, бываю довольно остроумен. Однако, моя гостья — хоть бы раз улыбнулась: будто и не слыхала моих шуток и комплиментов. Лицо ее застыло в неподвижном выражении тупого покоя. Она сидела, уронив руки на колена, вполоборота ко мне.
— Я здесь жила, вдруг прервала она меня, не обращая ко мне ни глаз, ни головы — словно меня и не было в комнате. Это упорное невнимание и смешило меня, и злило. Думаю:
— Либо психопатка, либо дура непроходимая.
— Все другое, — продолжала она, глядя в угол, — другое… и обои, и полы… Ага! сентиментальность! Воспользуемся.
— Вы, кажется, очень любите эту квартиру? — спросил я, рассчитывая вызвать ее на откровенные излияния. Она, не отвечая, встала и прошла в тот угол, куда глядела.
— Здесь были пятна, — сказала она.
— Какие пятна? — озадачился я.
— Кровь.
Отрубила и возвратилась к столу. Я ровно ничего не понимал. Но эта дурочка была такая красивая, походка у нее была такая легкая, что волновала и влекла она меня до одурения… и как-то случилось, что, когда она проходила мимо меня, я обнял ее и привлек ее голову к себе на плечо. Не знаю, что именно в моей гостье подсказало мне, что она не обидится на мою дерзость, но я был уверен, что не обидится, — и точно, не обиделась, даже не удивилась. У нее были холодные, мягкие ручки и холодные губки — большая прелесть в женщине, если она позволяет вам согревать их.
— Взгляни же на меня, — шептал я, — зачем ты такая безучастная? У тебя должны быть чудные глазки. Взгляни.
Она отрицательно качнула головой.
— Ты не хочешь?
— Не могу.
— Не можешь? почему?
— Нельзя.
— Ты всегда такая?
Вместо ответа, она медленно подняла руки и обняла мою шею. Стало не до вопросов.
Любовный смерч пролетел. Я валялся у ее ног, воспаленный, полубезумный; а она стояла, положив руку на мои волосы, холодная и невозмутимая, как прежде. У меня лицо горело от ее поцелуев, а мои не пристали к ее щекам — точно я целовал мрамор.
— Мне пора, сказала она.
— Погоди… погоди…
Она высвободила руку.
— Пора…
— Тебя ждут? кто? муж? любовник?
Молчит. Потом опять:
— Пора.
— Когда же мы увидимся снова?
— Через месяц… я приду…
— Через месяц?! так долго?
— Раньше нельзя.
— Почему?
Молчит.
— Разве ты не хочешь видеть меня раньше?
— Хочу.
— Так зачем же откладывать свидание?
— Это не я.
— Тебе трудно прийти? тебе мешают?
— Да.
— Семья у тебя что ли?
Молчит.
— Где ты живешь?
Молчит.
— Не хочешь сказать? Может быть ты нездешняя?
Молчит и тянется к двери…
— Пусти меня…
Я озлился. Стал поперек двери и говорю:
— Вот тебе мое слово; я тебя не выпущу, пока ты мне не скажешь, кто ты такая, где твоя квартира, и почему ты не вольна в себе.
Губы у нее задрожали… и слышу я… ну, ну, слышу… тем же ровным голосом:
— Потому что я мертвая.
Внятно так…
И… и я ей сразу поверил, и вся она вдруг стала мне ясна. И я не испугался, а только сердце у меня как-то ухнуло вниз, будто упало в желудок, и удивился я очень.
Стою, молчу и гляжу во все глаза. Она спокойно прошла мимо меня в переднюю. Я схватил свечу — и за нею. Там — Сергей, и лицо у него странное. Он выпустил гостью на подъезд. На пороге она обернулась, и я наконец увидал ее глаза… мертвые, неподвижные глаза, в которых не отразился огонек моей свечи… Я вернулся в кабинет. Стою и думаю:
«Что такое? разве это бывает? Разве это можно?»
И все не боюсь; только по хребту бежит вверх холодная, холодная струйка, перебирается на затылок и ерошит волосы. А свеча все у меня в руках, и я ею машу, машу, машу… и остановиться никак не могу… О, Господи!.. Увидал бутылку с коньяком: глотнул прямо из горлышка… зубы стучат, грызут стекло.
— Барин, а, барин! окликает меня Сергей.
Взглянул я на него и вижу, что он тоже знает. Бел, как мел, и щеки прыгают, и голос срывается. И тут только, глядя на него, я догадался, как я сам-то испуган.
— Барин, осмелюсь спросить: какая это госпожа у нас были? Я постарался овладеть собою.
— А что?
— Чтой-то они какие… чудные? Вроде, как бы…
И мнется, сам стесняясь нелепости необходимого слова.
— Ну?!
— Вроде, как бы не живые? Я — как расхохочусь… да ведь во все горло! минуты на три! Аж Сергей отскочил. А потом и говорит:
— Вы, барин, не смейтесь. Это бывает. Ходят.
— Что бывает? кто ходит?
— Они… неживые то есть… И дозвольте: такая сейчас мзга на дворе, что хороший хозяин собаки на улицу не выгонит; а они — в одном платьишке, и без шляпы… Это что же-с?
Я ужасно поразился этим: в самом деле! как же я-то не обратил внимания?
— И еще доложу вам: как сейчас вы провожали ее в переднюю, я стоял аккурат супротив зеркала; вас в зеркале видать, меня видать, а ее нет…
Я — опять в хохот, совладать с собой не могу, чувствую, что вот-вот — и истерика. А Сергей стоит, хмурит брови и внимательно меня разглядывает; и ничуть он моей веселости не верит, а в том убежден. И это меня остановило. Я умолк, меня охватила страшная тоска…
— Ступай спать, Сергей.
Он вышел. Я видел, как он, на ходу, крестился.
Не знаю, спал ли он в ту ночь. Я — нет. Я зажег свечи на всех столах, во всех углах, чтобы в квартире не осталось ни одного темного местечка, и до солнца проходил среди этой иллюминации. Так вот что! вот что!… там все — как живое, как обыкновенное; и однако оно и необыкновенно, и мертво. Я не трус. Я не люблю думать… нет, не люблю решать о загробных тайнах, а фантазировать кто же не любит? Я интересовался спиритизмом, теософистами, новой магией. Я слежу за французской литературой и охотник до ее оккультических бредней.
Вон и сейчас на столе валяется La Bas. Но оккультизм красив, огромен, величав. Там — Саул, вопрошающий Аэндорскую волшебницу, там — боги, выходящие из земли. Манфред заклинает Астарту; Гамлет слушает тайны мертвого отца; Фауст спускается к «матерям». Все эффектные позы, величавые декорации, значительные слова, хламиды, саваны. Ну, положим, я не Саул, не Манфред, не Фауст, а только скромный и благополучный управляющий торговою конторой. Положим, что и чертовщина имеет свой табель о рангах, и мне досталось привидение — по чину: из простеньких, поплоше. Но чем же я хуже, например, какого-нибудь Аратова из «Клары Милич?»[41] А сколько ему досталось поэзии! «Розы… розы… розы…» — звуковой вихрь, от которого дух захватывает, слезы просятся на глаза. Но, чтобы привидение пришло запросто в гости и попросило чашку чаю… и, вон, лежит недоеденный кусок хлеба, со следами зубов…
Это что-то уж чересчур по фамильному! Даже смешно… Только как бы мне от этого «смешного» не сойти с ума!…