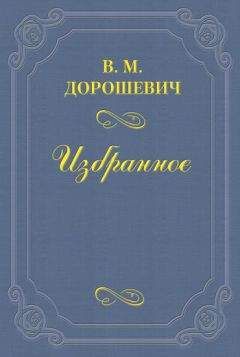Влас Дорошевич - Семья и школа
И дрожавший в страхе, словно всё это заклание происходило перед ним, учитель заплакал:
— Простите… Но не могу я… Не могу… Призрак меня замучил… И избавиться от него не могу. И не желаю! Как же я от него избавляться буду, когда он самое дорогое для меня в жизни? А замучил он меня, замучил. Я в школе перед ребятишками стою. Весело это! Весело смотреть, как в их глазёнках просыпается мысль. Весело, когда хор звонких голосов за тобой урок повторяет. Словно хор маленьких колоколов пасхальную заутреню звонит. Весело, радостно! И вдруг между мной и ими становится мой ребёнок.
«Им ты служишь, папа! А мне, а своему собственному сыну, что ты готовишь?»
«Призрак! Не могу я быть учителем. Призрак плачет. Не учитель я больше… Не учитель»…
И он весь дёргался, произнося эти слова.
И чувствовал я, что это были страшные для него слова,
Мы долго сидели молча.
Он сказал, наконец, глухо, тяжело, как говорится отреченье от любимого.
— Помогите. Устройте мне место сидельца в винной лавке.
Он весь съёжился, словно его придавило, сгорбился, голова ушла в плечи.
Он добавил:
— Если я так же усердно поведу лавку, как вёл народную школу, — моя лавка будет первой винной лавкой кругом. Я буду получать награды и повышения. И меня скоро сделают сидельцем в лавке первого разряда.
Через месяц
«Облетели цветы, догорели огни».
Среди писем, полученных на моё имя в редакции, есть одно, которому не лежится ни в кармане ни в портфеле. Оно просится в печать.
М. Г.[15]
Прежде всего позвольте представиться.
Я — герой.
Я тот самый «великий маленький человек», или «маленький великий человек», о котором, когда Вы писали, слёзы умиления капали с Вашего пера.
Словом, я народный учитель.
Заплачьте:
— Какое святое слово!
Впрочем, вы, вероятно, думаете с тоскою:
— А! Народный учитель!.. Вероятно, опять жалоба!
Нет, милостивый государь, мне жаловаться не на что. Своим положением я могу только хвастаться.
Я старый учитель. Служу делу более 20-ти лет. У меня — семь человек детей. Старшая дочь второй год учительствует. Вторая через несколько месяцев кончает семинарию и тоже начнёт учительствовать.
Мне остаётся поднять на ноги и вывести в люди остальных пятерых.
Чтоб сделать это на учительское жалованье, я не пью. Со дня рождения третьего ребёнка бросил курить. Сам обшиваю всю семью. Выучился шить. Выучился тачать сапоги. И сам шью обувь на всё семейство.
Я из крестьян. Поступив на службу в одно из сёл этой губернии, я приписался к местному обществу. Но новые односельчане воспользовались этим, чтобы не выдавать мне квартирных.
— Раз здешний мужик, какие ему квартирные?
Я перевёлся в другое село, и вот живу. Получаю 250 рублей в год жалованья, 50 квартирных, за 4 пятилетия по 50 рублей за каждое в год добавочных. Итого — 500 рублей.
Для чиновника, записывающего входящие и исходящие, для репортёра, пишущего о раздавленных собаках, для актёра, докладывающего «карета в барыне и гневаться изволит», было бы «ужас, как мало». Для народного учителя — за глаза довольно, и тысячи моих коллег, прочитав эти строки, сказали бы:
— Вот счастливец!
Итак, жаловаться мне не на что. Я берусь за перо просто для того, чтоб описать вам, как я вернулся с учительского съезда.
Первым долгом я заехал в нашем уездном городе к инспектору, до которого у меня было дело.
Артемий Филиппович всегда встречал меня с недовольным лицом:
— Чего, мол, ещё притащился! Чего ещё надо?
На этот раз он, как увидел меня, так весь и просиял. Улыбка во всё лицо, руки потирает:
— Ну, что? Побаловались? А? Отвели душу? А?
Молчу
— Так как же? Нас, инспекторов, по боку надо? А? Упразднить? А?
Молчу.
— Делу мешаем? А? Тормозим? А?
Всё молчу.
— Бюрократическое отношение вносим? А? Самовластвуем? А?
Всё молчу, всё молчу.
— Поругали нас на парламенте-то на своём? Смотрю, — у него на столе Московские Ведомости.
Поиздевавшись ещё таким образом, отпустил.
Приезжаю вечером к себе в село, наутро староста приходит:
— А мир с тебя, Василий Кузьмич, решил с весны за двух коров, за выпас, 10 рублёв положить!
— За что, про что?
— А так, мужички говорят: «жалованье получает, водки он не пьёт! С его можно».
Основание!
— Куды ему? — говорят. — Он, ишь, и сапоги сам шьёт!
И дёрнул меня чёрт горб гнуть, над сапогами сидеть! Вот тебе и экономия!
Я должен в свободное время, согнувшись, за сапогами сидеть, чтоб им мои 10 рублей на пропой пошли!
— Вы, — староста говорит, — в Москву ездили у начальства жалованья выпрашивать, чтоб больше было. Нам же тяжёльше.
Слухом земля полнится.
И откуда только у них слухи берутся!
В полдень зашёл батюшка.
Расспрашивал о «светских удовольствиях». Но видно было, что другой вопрос у него на уме.
Наконец, только спросил:
— И о церковнослужителях тоже отзывались с порицанием?
— Начитаны, — говорит, — мы в газетах. Начитаны. Хотя и вскользь, но есть. Не похвально! Срамить-с на всю Русь? Я так думаю, что от высшего начальства… вас за это по головке не очень погладят!
— Ну, — говорю, — батюшка, я, во-первых, лично за себя никому отчёта давать не обязан: что я говорил, чего я не говорил, с чем соглашался, с чем не соглашался.
— Нет, нет! Я не говорю. Я не говорю,
— А во-вторых, относительно съезда и начальства, наш председатель князь Долгоруков, прямо заявил, что никому за высказанные мнения ничего не может быть!
— Ну, коли так, значит так. Ему, конечно, лучше знать! А только мы, на местах, всё-таки знать будем, с кем дело имеем. Да-с!
И ушёл, едва попрощавшись, рассерженный.
Перед вечером заходил писарь.
Он у нас человек образованный. Свободное время — за книжкой.
Интересовался:
— А не видали ли вы в столице, Василь Кузьмич, сочинителя Максима Горького?
— Нет, не видал.
— Жаль, очень жаль. Интересно было бы знать, действительно ли так волосат, как пишут? И правда ли, будто ему рупь за каждую строку платят? Строку написал — рупь. Ещё строку — ещё рупь.
— Не знаю.
Перешли на съезд.
— Разъясните, говорит, мне. В толк взять не могу. Что такое, например, ваш съезд?
— Вот, — говорю, — собрались с разрешения высшего начальства, выясняли наши нужды, высказывали пожелания,
— Тэк-с! А начальство?
— А вот эти пожелания к нему и пойдут!
— Тэк-с! И оно как вы порешили, так тому и быть?
— Ну, это нет, — говорю. — Вы, Алексей Степаныч, человек развитой. Вы поймёте. Наш съезд имел больше не практическое, а моральное, нравственное, общественное значение.
— Тэк-с! Ну, а пожелание-то? Пожелание?
— Пожелания выслушаны. Но, от вас не утаю, говорят, что вряд ли будут исполнены. Примеры бывали.
— Тэк-с!
И смеётся.
— Это, — говорит, — в роде как я господина Гоголя сочинение читал. «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Там тоже Иван Иванович, как нищую встретит, беспременно расспросит. «А тебе очень, небось, кушать хочется?» — «Очень, панычу!» — «Ты, может, хлебца бы теперь скушала?» — «Да уж там чего милость будет. И хлебца бы скушала». — «Да тебе, может, и мясца бы хотелось?» — «Да оно и мясца бы, если милость ваша такая, — хорошо бы!» — «Скажи пожалуйста! Ну, что ж ты стоишь? Проходи, проходи! Ведь я тебя не бью!» Так и вас расспросили. Пожелание вы учебному начальству высказали. «Проходите, проходите! Ведь вас не бьют!» Хе-хе!
Тут уж я на него рассердился.
Он у нас по селу Мефистофель. На беду книг начитался и иногда очень ядовито цитаты приводит.
И вот я, «герой», о котором вы писали со слезами умиления, сижу снова в своей хибарке над сапогами. В окно глядит тёмная ночь, в трубе ноет ветер, и у меня ноет, ноет в душе.
— За что они у меня отнимают последние 10 рублей? За то, что я тружусь и не пью?
Мне вспоминается встреча с нашим уездным предводителем на станции.
Наш уездный предводитель — отрадное явление.
Я вообще заметил, что за последнее время все уездные предводители в «отрадные» пошли.
Мы ехали со съезда в одном поезде.
Он — в первом, я — в третьем. Только всего и разницы.
Он ел на станции котлетку с горошком, я пришёл кипяточку набрать.
Остановка двадцать минут. Увидал меня:
— А, Василий Кузьмич! Подсаживайтесь!
Отрадные предводители перед съездом всех своих учителей по имени-отчеству узнали, кого как зовут. По крайней мере, тех, кто на съезд поехал.
— А, — говорит, — Василий Кузьмич! Подсаживайтесь. Поболтаем, Василий Кузьмич! Красненького не угодно ли, Василий Кузьмич? Недурное.
Разговорились, конечно, про съезд.
— Что, Василий Кузьмич…
Он так и повторял ежесекундно: «Василий Кузьмич», словно боясь, чтоб не забыть.