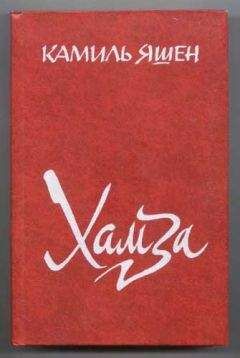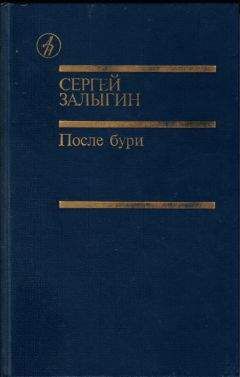Петр Краснов - Ложь
Дружно приняли от него все гости:
Lasset die Sorgen zu Haus,
Meidet den Kummer und meidet den Schmerz,
Dann ist das Leben ein Scherz![31]
– Ни тоски, ни забот, ни печали, – сияя блестящими, темными, увлажненными, хмельными глазами, воскликнула Соня Верховцева и протянула Лизе свою рюмку.
– Клинг… клинг… клинг… – мелодично звонко зачокались, сталкиваясь, рюмки. Жидкое золото взблескивало в них, отражая огни люстры.
– Наполните ваши бокалы…
– Prost!..
– Prost!..
Секендорф разливал вино. Его некрасивое лицо было красно, волосы на темени стали дыбом. За толстыми стеклами круглых очков счастьем сияли добрые, хмельные глаза.
– Барон, – сказал он, – споемте нашу обычную, нашу любимую… Начинаем…
– О, только не ты, милый Ральф, – воскликнул Клаус, – у тебя слух, как у крокодила…
– И голос, как у дикой кошки, – сказала Эльза.
– А чувство ритма, как у пьяного велосипеда, – сказала Кэт Бланкен.
– Э, полноте, meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, дело не в крокодиле, и дикой кошке, и даже не пьяном велосипеде, хотя я и позволю себе усомниться, чтобы велосипеды пьянствовали. Дело в душе, в душевном настроении в переживании песни, а этого всего я дам в песне в изобилии…
Секендорф встал, взмахнул вилкой, как дирижерской палочкой, и все запели в унисон, молитвенно строго и стройно. Вел песню барон, ему вторила Лиза. Секендорф гудел низкой октавой, и не портил хора:
Verschleucht die Sorgen, trink, liebet und singt,
Wen kümmert, was morgen das Schicksal bringt,
Die Stunden verinnen, kommt keine zurück
Rasch fieht von binnen mit ihnen das Glück…
Легло, уносилось безвозвратное время. Лизе, – пьяненькая она была после водки и вина, – казалось: ощущает она неудержимый полет в вечность… Не остановить времени!.. Нельзя управлять событиями. К отцу, так к отцу!.. В Париж, так в Париж!.. Стряпать на кухне, чинить белье стареющему отцу, ходить за ним…
Звонким, чистым голосом пела Лиза, смотрела на Курта блестящими пьяными глазами, в них дрожала слеза, и, сквозь песню, думала: «Неужели он не понимает, что, если не теперь, не сегодня, то уже никогда!.. И, если сегодня, сейчас, этого не случится, то что остается ей делать, как не уехать от своей любви, от счастья, которое все равно прошло мимо, лишь поманив за собою?…». Она взглянула на золото вина в бокале, и, почти не думая о том, что поет, продолжала петь, покрывая сильным голосом весь хор:
Ich kenne eine Blüte mit goldenen Schein
Dass Gott sie hüte, sie heisst der Wein,
Er funkelt im Becher, er perlet und schäumt,
Nun trinket den Becher, nun trinkt und träumt…
Die Träume, sie steigen und schweben empor,
Sie tanzen den Reigen der Elten uns vor,
Sie bringen die Tage des Fruhlings zurück…
Da schweigt jede Klage, da jauchzet das Glück[32].
Лиза пела, мечтала, надеялась, ждала, и быстро, быстро билось ее юное сердце…
XXI
Молчаливый лакей барона, бесшумно ступая, собрал со стола опустошенные блюда с закусками и бутербродами и пустые тарелки. Остались большие сладкие пироги: зеленый, уложенный виноградом и покрытый прозрачным желе, и нежно-розовый, земляничный. Лакей принес тяжелые серые, с синими узорами, каменные кружки и громадные зеленые пузатые кувшины с пивом.
– Неужели, господа, еще будем пить? – сказал Игорь Верховцев.
– А ты не можешь, – насмешливо сказала Лиза. – А еще матрос германского флота!
– Мочь-то я могу. Да только куда все это лезет…
– Можно немного погодя, – примирительно сказала Эльза. – Для здоровья пиво не вредно.
Лиза и Соня отошли от стола и развалились на широком диване с высокою прямою спинкой.
Нервы Лизы были напряжены до крайности. Одно грубое прикосновение, и они лопнут, как слишком натянутые струны скрипки, и она разрыдается или станет безумно хохотать.
Но… Кругом немцы… Не станет она показывать перед ним свою «slawische Seele»… Она – немка. Она будет тверда, спокойна и разумна, как немка.
Но все ждала, из-под завесы густых прелестных ресниц блестящими темно-синими глазами поглядывая на Курта, ждала, и сама не знала, чего.
Курт, в дорогом светлом костюме, самый стильный, самый красивый, сильный, среди юношей, светловолосый, голубоглазый, настоящий молодой немец, сидел, задумавшись, в углу стола.
«О чем он думает?.. Высчитывает какую-нибудь кривую, решает в уме трудную задачу, устремлен в бесконечность, чтобы оттуда, из этой темной, таинственной, математической дали извлечь то, что ему надо для нового аэропланного приспособления, которое прославит германское имя… А, вот, возьму и внесу в него смятение, загипнотизирую его»…
Лиза пронзительно смотрела на Курта и мысленно говорила ему со всею силою нежности своей любви: «Ну, оглянись!.. Ну, милый, дорогой Курт!.. Курт!.. Оглянись, посмотри на меня своими ясными глазоньками… Вспомни пережитое нами этим летом, как загорали мы с тобою на берегу Северного моря, когда часами лежали на песке… Курт вспомни, как чертил ты на песке свои кривые, как рисовал свои сложные машины, и когда твоя умная головушка запутывалась в формулах, кто ясным, светлым, вдохновенным русским умом подсказывал тебе нужное решение? Курт, вспомни наши поцелуи, и тот огонь, что бежал от них по жилам, пьяня, как самое сухое шампанское… Знаю… Я – русская, ты – немец… Я бедная, ты – богатый… Курт, есть нечто высшее, чем сухой материалистический мир… О чем мы пели… Есть – любовь… Voll Verlangen nach der Liebe, und sie wünscht, dass es ewig so bliebe, denn die Liebe macht so schön…
Она была так прекрасна в эти мгновения своего таинственного колдовства, что все притихшие, было, за столом молодые люди и девушки, мочившие губы в холодном душистом пиве, любовались ею.
«Ну, оглянись, Курт!.. Курт!!. КУРТ!!!».
Курт не оглянулся.
Клаус принес гитару и сел рядом с Лизой. Звякнули струны, перебрали лады… Сначала невнятно, неопределенно, звуками, стонами, звонами заговорила гитара. Потом голос ее стал определеннее, яснее, громче, перезвоны словно подсказывали слова, слова вызывали картины….
Время шло. Уходило невозвратное время. Золотые часы перед разлукой таяли.
Отдернули тяжелые портьеры. Душно было в комнате, сильно накурено, пахло едою и пивом.
Раскрыли настежь окно… Убывала, уходила, истаивала сентябрьская ночь, меркли в густой синеве неба угасающие звезды… Истаивала в тоске ожидания душа Лизы, меркли ее надежды…
Гитара играла бодрый марш. В такт с нею, за столом постукивали кружками. Кто-нибудь подымет свою, протянет к соседу или соседке:
– Prost!
– Prost!
Плыли, уплывали в памяти Лизы картины недавнего прошлого. На ней тогда была желто-коричневая куртка, белая блузка и черная юбка. Тяжелый ранец оттягивал девичьи плечи. В колонне по три шагала она с другими девочками за колонной юношей. Вон – впереди – Курт! Он выше всех, он ладнее всех. Его голова, как колос, блестит золотом волос на солнце. Чуть покачивается в такт шагу его ранец… Она его только и видит, точно в его ранце лежит ее счастье…
Подле Курта – Клаус. Широкая красная лента у Клауса через плечо; на ней гитара… Вот так же заиграл он тогда, – совсем недавно – и Лиза тогда запела…
Кругом, как колонны огромного Божьего храма, стояли высокие сосны, задумчиво шумели широкими кронами вершин, кругом были песчаные осыпи, холмы, луга, и, впереди, за лесом, в зеленой арке выхода, блестит, блестит, блестит, извиваясь в изумрудной раме кустов; садов и плакучих ив Гавель, с его озерами, разливами, камышами, с белыми, косыми парусами чистеньких яхт… Разве там не было счастья?..
«Курт!.. Ты слышишь?.. Счастья?.. Счастья!.. Курт, оглянись!..».
Лиза выждала, когда Клаус вернулся к началу песни, и на всю столовую запела звучным, от природы хорошо поставленным голосом ту песню, что пели тогда…
Märkische Heide, märkischer Sand,
Sind des Märkers Freuden,
Sind seih Heimatland…
Со всех концов столовой, по которой разбрелись гости, от открытого окна, из-за стола, от угла у портьеры двери, отозвались дружным хором на Лизин запевок:
Sind des Märkers Freuden,
Sind sein Heimatland!
В такт марша, застучали башмачки девушек. Худенькая Гутштабе взяла под руку Игоря, и они зашагали вокруг стола, отбивая ногами такт. Барон широко улыбался круглым лицом и стучал в ритм песни тяжелой пивной кружкой…
Steige hoch, du roter Adler,
Hoch über Sumpf und Sand,
Ueber dunkle Kieferwälder,
Heil dir, mem Brandenburger Land!..[33].
В два голоса – барон мягким баритоном, и Лиза звонким меццо-сопрано – продолжали песню…
За окном небо посветлело, стали видны дали широких улиц, аллеи боярышников, из окна пахнуло свежестью осеннего утра, запахом орошенной росою густой листвы палисадников…
XXII
Когда молодежь расходилась по домам, было совсем светло. Барон фон Альвенберг приказал подать свой большой «Бенц», и забрал с собою Верховцевых, Кэт и Марихен.
– Обязуюсь в целости и сохранности развезти всех по домам…
– Барон, – слабо протестовали барышни, – вы же устали!..
– Старый немецкий студент никогда не устает после бессонной ночи. И так приятно теперь прокатиться по пустому городу…
Химик Секендорф и молодцеватый, лихой драгун Баум подняли руки с приветливым жестом: