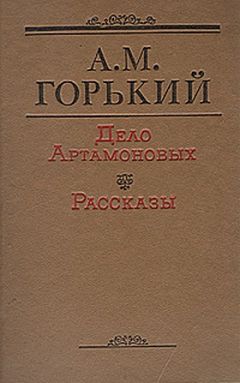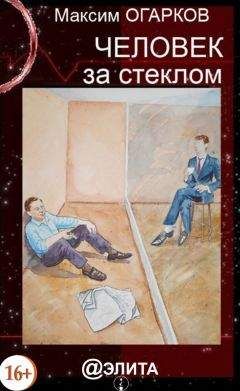Максим Горький - Том 16. Рассказы, повести 1922-1925
— Так, — сказал он, стоя у окна, в углу комнаты, тонкий и длинный. — Вы чувствуете именно так. Человека — нет! Нет человека. Везде — теоретики, критики, а действительного, волевого человека — нет!
Тусклые стёкла окна наполняли комнату серовато-зелёным сумраком, в нём Новак казался ещё менее ощутимым. Лицо его было мертвее, чем всегда, голос звучал уныло. Он не мог сказать мне ничего, что ободрило бы меня, я ушёл удручённый и на улице испытал острый, почти безумный приступ жестокости, меня охватила вдруг жгучая дрожь, мне захотелось крикнуть прохожим, как собакам: «Цыц!»
Потом я долго сидел в полукружии гранитной скамьи, на берегу Невы, и думал, что если б я обладал властью, я знал бы, что надо делать с людьми. Ведь все люди живут страхом нищеты, голода, уничтожения, страхом смерти, а всё остальное приписывается — именно приписывается — им сочинителями «идей» только для того, чтоб утешить и этим обмануть их, чтоб они не обезумели, не озверели со страха и не перестали работать на человека, поняв, как бессмысленна и страшна их жизнь.
Вероятно, именно в этот вечер родились у меня мысли, раньше незнакомые мне. Я подумал, что, в сущности, ведь и человек тоже трус, кто бы он ни был. Может быть, он боится не того, чего боятся люди, но — он боится людей. Их так много, и они так чужды ему. Страх пред людьми и даёт инстинкту жизни в человеке право быть безжалостно жестоким с людьми, неоспоримое право, потому что корень его — в инстинкте самосохранения. Иван Грозный был, наверное, трус, как все так называемые тираны. Политика трусов всегда политика жестокости, все политики безжалостны. Это — законно, иначе не может быть. Только тот, кто всегда чувствует опасность жизни и умеет хорошо бояться, способен действовать решительно. Может быть, героизм «героев» — просто крайнее выражение отчаяния человека? Даже наверное: героизм есть отчаянный поступок испугавшегося человека.
Да, если б я обладал властью, я оставил бы в мире страшную, ослепительную память о себе, я затмил бы славу всех тиранов мира, я бы выстирал и выгладил людей, как носовые платки.
Мне кажется, что именно с этого вечера жизнь стала особенно быстро изменяться, принимая всё более мятежный характер. Что-то ироническое явилось на плоских и, в сущности, убийственно однообразных лицах людей, что-то преступное и уверенно ожидающее. Чего? Какие соблазнительные видения возникли в их ленивых мозгах? Может быть, им приснилось, что они стали сильными, бесстрашными и могут сделать какой-то шаг в сторону от привычного пути? Может быть, они ищут человека, который указал бы им, как сделать этот новый шаг, ищут вождя, который взял бы их своей силой и повёл за собою?
Затем наступили месяцы, когда я уверенно ждал, что власть над людьми возьмёт мой патрон. Эта уверенность была и у него. Он подтянулся, похудел, стал ещё более часто и крепче гладить свои руки, в калмыцких глазках его вспыхнул жуткий синий огонёк. И всё чаще видел я, как весело и голодно блестят его оскаленные зубы. Ночами я думал о том, что меня ждёт, и ощущал в груди трепет роста той силы отчаяния, силы страха, которая создаёт героев и командует жизнью миллионов людей. Случись то, чего я ждал, и, говорю я, люди увидели бы человека поистине страшного.
Но случилось иное. Дома города изрыгнули на улицы всех людей, на площадь вывалилась раздражённая, тёмная масса живого, голодного и жадного мяса. Красные пятна флагов, выстрелы, и снова, и ещё пятна флагов, — мясную лавку напомнили мне они.
Потом в комнату мою, изломанно согнувшись, ворвался Новак и, захлёбываясь словами, присвистывая, захрипел, зарычал, толкая меня в кабинет патрона:
— Что вы сидите? Рвите, жгите… вы сошли с ума? Р-революция! Он — арестован! Где мои письма? Р-рвите-уп-уп-уп-жгите… В камин…
Он упал в кресло у камина, снял очки и, вытирая стёкла их о колено, застонал:
— Да — что же вы? Уничтожайте, рвите, жгите…
Впервые я увидал его глаза: они были маленькие, бесцветные, без ресниц и воспалены, — спрятаны в таких красненьких подушечках, должно быть, полных гноя. Я очень долго и пристально рассматривал их, потом взял его за ворот и приподнял с кресла.
— Негодяй! — сказал я в глаза ему, ноги у меня дрожали, и в груди моей я слышал этот режущий душу зимний свист, тонкий и злой.
— Негодяй! — сказал я, встряхивая учителя. — Воспитатель героев, а? Подлец, — где твои герои?
Он подпрыгивал, царапал руки мои кривыми пальцами и хрипел:
— Не смей… я не виноват… революционер… не смей, изменник…
— Негодяй, — говорил я ему уже с наслаждением, неведомым мне до этих минут. — Я боялся тебя, я тебе верил, верил, что ты — сильный, страшный. Во что же мне верить теперь, чего бояться? Ты убил во мне страх, ты человека убил во мне, негодяй!
И, оттолкнув его, я ушёл.
…Около года я сидел в тюрьме. Там познакомился с группой бандитов, это освободило меня из тюрьмы и дало мне место агента уголовного розыска. Убивал людей, — это делается очень просто. Теперь я сам бандит. Могу быть палачом. Всё равно.
Рассказ об одном романе
Наконец гости уехали, с ними уехал муж; прислуга, утомлённая суетою шумных дней, стала невидима, и весь дом как будто отодвинулся в глубину парка, где тишина всегда была наиболее стойкой, внушительной и всегда будила в душе женщины особенно острое желание прислушиваться к безмолвной игре воображения и памяти.
Женщине — лет двадцать семь; она маленькая, стройная, светлая, у неё овальное, матово-бледное лицо; глаза, цвета морской воды, несколько велики для этого лица, а выражение глаз — старит его; осторожно прикрытые длинными ресницами, они смотрят на всё вокруг недоверчиво и ожидающе.
Есть такие женщины, они всю жизнь чего-то ждут, в девушках требовательно ждут, когда их полюбит мужчина, когда же он говорит им о любви, они слушают его очень серьёзно, но не обнаруживая заметного волнения, и глаза их, в такой час, как бы говорят:
«Всё это вполне естественно, а — дальше?»
Было бы ошибкой назвать такую женщину рассудочной и холодной. Выйдя замуж, она честно любит мужа и терпеливо ждёт, когда же, наконец, вспыхнет ещё какая-то, может быть «бесчестная», но иная любовь? Такие женщины нередко уходят от мужей с другими мужчинами, оставляя мужу коротенькую записку карандашом и ровным почерком:
«Прости меня, Павел, но я не могу больше жить с тобою».
«Прости меня» — они пишут не всегда. С другими мужчинами они ведут жизнь иногда весёлую и «бурную», иногда — тяжёлую, непривычно нищенскую, но в обоих случаях ждут ещё чего-то. Говорят они мало, неинтересно, философствовать вслух — не любят и относятся к драмам, неизбежным в их жизни, со спокойной брезгливостью чистоплотных людей. Детей родят неохотно. После всех значительных моментов их жизни странные глаза таких женщин смотрят так, как будто безмолвно спрашивают:
«И — только?»
Затем глаза темнеют, хмурятся упрямо, договаривают:
«Не может быть!»
И снова такая женщина чего-то ждёт, ждёт до той поры, пока уже ничего не нужно, кроме хорошего, крепкого сна или утраты памяти другим путём.
Одной из таких мало приятных женщин и была героиня романа, о котором я рассказываю, потому что не умею написать его так хорошо, как хотел бы.
Окутав плечи пуховым пензенским платком, она вышла на террасу дачи и села там в плетёное, скрипучее кресло. Багровые листья клёна и жёлтые берёз лежали у ног женщины на трёх ступенях террасы и на полукруге площадки пред нею. Между деревьев парка просвечивало красноватое небо, и все вокруг обняла прозрачная, чуткая тишина осени, как-то особенно музыкально, умело и необходимо подчёркнутая струнным звоном синиц. В жемчужном зените неба неподвижно застыл бледный круг луны.
Прикрыв глаза, женщина занялась уборкой души, — гости и муж насорили там множество слов о Толстом, охоте на уток, о красоте старинных русских икон и неизбежности революции, об Анатоле Франсе, старом фарфоре, таинственной душе женщины, о новом и снова неудачном рассказе писателя Антипы Фомина и ещё о многом другом. Всё это нужно было вымести, выбросить из памяти, и лишь очень немногое требовало, чтоб женщина внимательно и ласково подумала о нём.
Поперёк одной из половиц террасы глубокий след удара острым, — это писатель Фомин рубил змею топориком для колки сахара. Неуклюжий, тяжёлый человек, в эту минуту он был ловок, точно кошка, и так воодушевлён, как будто возможность убить змею явилась для него долгожданной радостью. Он так сильно ударил, что топорище переломилось.
В тот же день вечером, здесь, на террасе, он читал начало своего романа о человеке, который усердно старался понять, хороший он человек или плохой, и, наделав немало дурного и хорошего, так и не понял ничего, а потом умер нудно и печально, одинокий, чужой сам себе.
Но о его смерти писатель рассказал, читал же он только четыре первые главы романа, в них описывалось, как молодой человек Павел Волков приехал в поместье своей сестры и невзлюбил её мужа, грубого до цинизма, считавшего себя энергичным культуртрегером. Эти главы показались женщине скучными, но хорошо был описан летний вечер и настроение героя, который, сидя в парке на скамье и стараясь уязвить женщину, ушедшую от него с другим, безуспешно пытался сочинить злые стихи и уже сочинил две строчки: