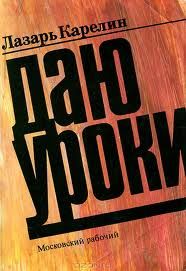Лазарь Карелин - Змеелов
Павел кинулся к тетради, всмотрелся в одну схему, в другую, связал их с тем товаром, о котором упоминалось перед чертежом. Догадка его не подтверждалась. Традиционный путь астраханских арбузов не мог кружить, арбузы шли к Москве баржами, прямыми линиями, завершали путь по каналу, а схема кружила, будто арбузы плыли по сужающейся спирали. Рефрижераторный фургон Мосавтотранса с пятью тоннами винограда должен был бы проделать долгий путь, длинные бы должны были лечь на схеме линии, а схема была тут коротенькой, была всего лишь треугольником. И в вершинах этого треугольника стояли, как в теоремах, три заглавных буквы: В., Т., М., если прочесть их по часовой стрелке.
Рыба, центнеры рыбы, кефалевой, сельдевой, скумбриевой, осетровой, рыбы с разных концов света, путь которой по суше мог бы начаться с Мурманска, Одессы, Клайпеды, Астрахани, Красноводска, Владивостока даже. Эта рыба тоже по коротким путешествовала схемам, а иногда плутала, кружилась, перекидывалась, как по речным порогам, когда идет на нерест. И снова лишь заглавные буквы в конце каждого отрезка схемы. Догадка не подтверждалась. Что-то очень тревожное жило в этих темных схемах, в этих запутанных линиях, ясных только тому, кто их чертил. И никакого ключа, чтобы отомкнуть тайну. Попробуй расшифруй! Но уже понял Павел, что не отступится, дознается. Понял, что тетрадь кричит ему про серьезное, про такое, о чем Петр Котов даже сам с собой секретничал, не доверяя тайникам. А вдруг кто обнаружит, раскроет, поймет. Но тогда зачем, умирая, он отдал тетрадь ему? Пускай бы эта тайна и ушла в могилу вместе с владельцем тетради. Нет, не для того тут все писалось и чертилось, чтобы сгинуть. А для чего?
Страница, еще страница - даты, цифры, название товара, обозначение емкостей - машин, рефрижераторов, барж, вагонов, а потом схемы, но не проясняющие, а все запутывающие, и эти заглавные буквы, всего лишь буквы с точками.
Пожалуй, надо было ложиться спать. Утро вечера мудренее. Но тетрадь притягивала, затягивала. Еще страница, еще страница. Сюда бы ученого! Какой-то историк, ленинградец, Павел сейчас не мог вспомнить его фамилию, положив многие годы труда, прочел все же письмена исчезнувшего народа майя. Его бы сюда, этого ученого. Но тетрадь эта не для ученых, иная в ней жила темнота, иная наука. То была его, Павла, наука, он сам был - майя. Его приговорили за эту науку к восьми годам. Он отсидел четыре, вырываясь на свободу, выламывался, вырвался. Он год змей ловил, чтобы не красть, но вернуться с деньгами, ибо без денег свобода не смотрелась. Вернулся, да, но опять все та же наука. Приговорен он к ней, что ли? Эта наука, этот опыт должны были помочь Павлу растемнить тетрадь Котова, тот рассчитывал, что Павел сумеет. Не получалось. А надо понять, необходимо понять. Если дом охвачен пожаром, а на стене висит схема, куда бежать, чтобы выбраться из огня, то надо эту схему запасного выхода суметь прочесть, понять и не тянуть с этим, огонь ждать не будет. Огонь уже подобрался к Павлу, Павел уже ступил в него. Поймет ли, найдет ли путь к запасному выходу? А есть он, этот выход? В этой тетради выход? Зачем, умирая, ему отдал ее Петр Григорьевич?
Павел сунулся в холодильник, поискал предложенную Леной водку. Да, стояла початая бутылка, заткнутая пробкой от какого-то лекарства, такими пробками виноделы не пользуются. Может, с год стоит тут эта бутылка, чуть-чуть только тронутая в день новоселья, одинокого новоселья. Павел не решился взять эту бутылку.
Он снова вернулся к тетради, взял со стола, пошел с ней в комнату, начал ходить, петляя по комнате, как петляли иные схемы. Павел даже понюхал тетрадь, близко поднеся к лицу, листанул, рассматривая в общем и в целом. На первой странице, где цветная бумага, где школьники выводят свое имя, свою фамилию, пишут, из какого они класса, из какой школы, в самом углу этой страницы, в левом нижнем углу, забившись под самый корешок, чуть-чутошная виднелась цифра восемнадцать. Даже не цифра - две закорючечки, забившиеся в складку на корешке. Но когда листанул тетрадь, когда складка на миг разжалась, эти закорючки явственно обозначали - восемнадцать. Ну и что? Тетрадь была пронумерована Петром Григорьевичем. Павел открыл ее на восемнадцатой странице и вернулся на кухню. Ну и что, подумаешь, находка?! Он сел к столу, чувствуя, что познабливает его, вспомнив себя таким, когда на отлове вдруг с какого-нибудь холмика беспричинно сыплется совсем немного песка. Змея! Изготавливайся!
Азарт мешал ему читать восемнадцатую страницу, слишком всматривался, вцеплялся в каждую букву. Надо было переждать этот в себе азарт, надо было оглянуться, как его учили. Он оглянулся на окно, всмотрелся в темные купола, по которым шли редкие блики. Не веруя ни во что, он помолился, попросил купола, застывшие в небе кресты помочь ему.
Страница была такой же, как и уже прочитанные. Цифры, даты, тонны, центнеры. Была и схема, из тех, которые кружили. В конце этих кругов, в конце хвоста стояла не буква, в первый раз стояла не буква, а имя. Странное какое-то, не сразу открывшееся, отчетливо знакомый звук, но забытый, откуда.
- Митрич! - вслух произнес это слово-звук Павел и вскочил, начиная понимать.
Но надо было еще проверить, надо было еще проверить. Он поднес тетрадь к глазам, встал под самую лампу, дочитал страницу до конца. Только один раз, будто ошибившись, проговорившись, написал не букву, а имя Котов. В других местах, где кончались линии схемы, где начинались углы-изломы, стояли буквы. Только один раз проговорился Котов. Но он не проговорился, он хотел, чтобы эту страницу нашли, он ее обозначил, хотя и припрятал цифру в складке бумаги у корешка. Павел начинал понимать. Но тут его нервы сдали. Он выхватил из холодильника бутылку, выдернул медицинскую эту пробку, стал глотать из горлышка. Пил, и в голове яснело.
Понял! Он оторвался от бутылки, поставил ее на место, спокойно, нарочно медленно сел к столу. Он вернулся к первой странице, медленно листая, дошел до восемнадцатой. Так оно и есть: буква "М." завершала все схемы. Все заглавные буквы выходили к нему, к Митричу, а каждая буква была фамилией или кличкой. Товар шел от человека к человеку, передавался по цепочке, вручался Митричу. Вот так Колобок!
Это был вовсе не дефицитный товар, не всегда дефицитный, но его было много, всегда много. Вагоны, машины, контейнеры. Товар плутал не по всей стране, шел не из портов и с морей, он кружил по Москве. Митрич завершал схему. А кто ее начинал? В начале всех схем, когда дело касалось рыбы, стояла буква "Р.". Когда дело касалось других товаров, буквы были разными, но повторялись, часто повторялись. Павел не мог, как ни напрягался, расшифровать эти буквы, населить их людьми. Тетрадь была начата чуть больше трех лет назад. В это время Павел сидел. Его связи с Москвой были оборваны. Те, кто могли бы войти в пай к Митричу, кого Павел знал по прошлым своим делам, тоже отбывали свои сроки. Кое-кто уцелел, но их фамилии не совпадали с начальными буквами или совпадали, но явно невпопад. Это были новые дела, это были дела, ускользнувшие, ускользавшие от следственных органов, от ревизорского досмотра. Это были дела, хищения, которые самолично расследовал Петр Григорьевич Котов. Зачем-то ему это было нужно. Расследовал и принимал участие. Расследование шло изнутри. Понадобилось человеку все до конца понять. Перед собственной кончиной хотя бы. Диагнозы устанавливают врачи, но больной, заболевающий, лучше любого врача осознает, что болен, заболевает. Таится, таит от других, от себя, но знает, осознает, но вслушивается в себя, но начинает укладываться, как укладываемся мы в дорогу. Кто приводит в порядок свои архивы, кто шьет себе траурное платье, кто переписывает завещание, кто, как вот Петр Григорьевич Котов, начинает проводить самоличное дознание, чтобы понять всю меру, всю глубину своего падения. Понял Павел Петра Котова, обучила жизнь Павла Шорохова уму-разуму.
Тетрадь была разгадана, но не прочитана. Только Митрич пока был прочитан. Митрич и был этим ключом к прочтению тетради. Петр Котов знал все про всех. Павел не знал почти ничего. Но тот умер, а Павел был жив. И у него была эта тетрадь, завещанная ему в самую последнюю минуту ее владельцем. Это значило, что Петр Григорьевич Котов хотел, чтобы Павел понял все то, что понял он. Хотел, чтобы тетрадь эта не исчезла. Хотел, чтобы следствие продолжалось. Он предостерег: "Никому..." Да, это была опасная затея. Недаром так рыскал, так выспрашивал Митрич, вызнавая, не осталось ли каких записей после Котова. Чувствовал, догадывался, подметил, что тот пошел по его следу? Да, это была опасная тетрадь. Теперь надо ее прятать. Теперь надо все время оглядываться. Детектив начинался. Не верилось, что он становится участником детектива, начинает жить по законам кинофильмов, над которыми частенько подшучивал. Жизнь - это вам не кино. В жизни все попроще, поскучнее, хотя убивают, и грабят, и воруют. Сажают вот тоже. Но хотя и крал, судили его, хотя и сидел, Павел не мог свести, сравнить свою жизнь с какой-то киношной историей. Змей ловил - это ли не кино? - но это была работа, будничная, изнурительная, скучно-опасная, какое к черту кино. Вернулся, попал сразу в постель к потаскухе, сразу запутали его, толкнули к старому, да еще и с нуля почти. Но и это была жизнь, ничего в ней не было для экрана, для того, чтобы посмотреть, поудивляться, пугаясь, но, впрочем, не прерывая ужина. Это была жизнь. Такая вот, какая задалась. Будничная, грязноватая, незадачливая. Тут не про что было рассказывать, нечего было показывать. Но вот и влип в детектив. Эта тетрадь могла и жизни лишить. Сжечь бы ее, изорвать, разлепить на страницы и сжечь прямо сейчас. Или спустить все в канализацию. А память? А то, что узнал? Это, узнанное, уже потянет и дальше ниточку, разгадываться будут буквы - одна за другой, одна за другой. Тетрадь еще не прочитана, там еще и еще что-то есть... Нет, сейчас ее уничтожать нельзя, пусть договорит свое. Но оглядывайся, Паша, оглядывайся. Серьезные мужички стоят за этими буквами, оборотни. Волки, прикинувшиеся колобками.