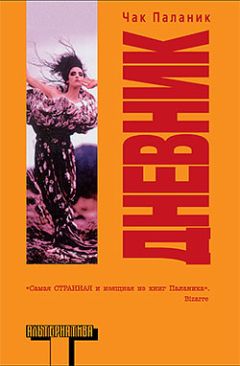Григорий Козинцев - Пространство трагедии (Дневник режиссера)
Эти миры, ужасающие своей узостью, ничтожностью, открываются у Гоголя, как в романе путешествий, с движения, если угодно, "съемкой с хода": чмокает кучер, лошади прибавляют шаг, исчезает горизонт, появляются деревушки, прилегающие к имению, въезд в усадьбу, множество вещей, сам хозяин идет навстречу; необъятный простор сменяется нагромождением вещей, стены сжимаются, опускаются потолки - пятачок театральной фурки.
Мейерхольдовские прожекторы высвечивали не копии реальности, а реальность существа явлений, сгустки сути. Тайны театра, но и тайны гоголевского искусства. Что значили эти странные планировки: сбитые в кучу люди со свечами в руках, чтение письма к "душе Тряпичкину", загнанное в клетку-беседку, золочено-барочный лубочный трельяж. Красное дерево, карельская береза, фарфор и хрусталь-все стиснуто на пятачке, а потом - пустота, нагота жестко высвеченного пространства всей сцены - ни вещей, ни признаков жизни, только топот галопа-дурацкого праздника на весь мир.
Просцениум - не только архитектура сценической площадки, но и сам шаг Мейерхольда, его неудержимое движение вперед, за портал, за пределы театра. "Просцениум" всегда был в его искусстве-край, граница пространств реальности и театра. Здесь, на самом острие, он сближал, сдвигал миры: расставлял зеркала под разными углами, так, чтобы отражения двоились, троились, двойники вырастали за героями, пространство уходило в бесконечность.
Ну, а маска? Об Арлекине и Пьеро он уже не вспоминал. В месяцы работы над "Ревизором" он говорил о других персонажах: учитесь у Чарли Чаплина и Бестера Китона - призывал он. свою труппу. Учились прилежно: обалделая неподвижность лица Гарина-Хлестакова состояла в родстве с застывшей печалью Китона. Маски старинного народного театра сохранились не только в стилизованных театральных пантомимах, но и перешли - через водевиль - на экран Мак Сеннета.
{93} Странные структуры в искусстве то исчезают, то опять возрождаются уже в ином качестве. Тайны театра или тайны жизни? Во все времена какие-то явления сгущаются, живой смысл исчезает-нелепица сбивается в кучу, несуразная толкотня на пятачке. А потом почему-то за всем этим как-то разом, неожиданно раскрывается грозное пространство истории: трагедия повторяется фарсом. Фарсом по уши в крови.
Просцениум и маска. Но в кино нет просцениума, и маска выглядела бы на экране театральной. Тогда можно сказать по-другому: Лир-король, отец, старик, тиран, мудрец, мученик, сам Шекспир (какие еще маски в образе?) -выходит с прямым обращением, вперед, на крупный план; ни отсвета рампы не должно быть на его лице. Никакой разграничивающей линии между людьми Шекспира и людьми в зале; между горем на экране и памятью о горе в жизни.
В 1925 году мы снимали "Шинель". Уточняя образ, мы однажды представили себе в роли Акакия Акакиевича... Чарли Чаплина.
Казалось бы, нелепая мысль: что схожего между маленьким бродягой и чиновником, униженным и уничтоженным "департаментом подлостей и вздоров"?.. И все же тень чего-то подобного проходила; какая-то почти неуловимая схожесть: маленький человек в огромности чужого, чуждого ему мира. Ничто не пропадает бесследно: какие-то фразы из какого-то сгоряча данного интервью перепечатали, я нашел их потом в американском киножурнале. Все это позабылось бы, совсем ушло из памяти, если бы...
Право на прямое обращение, как его понимал Мейерхольд; эксцентрик в пространстве трагедии - седой, восьмидесятилетний. .. Да, пожалуй, он мог бы быть лучшим из Лиров.
10
Современный театр в его большей части Питер Брук считает омертвевшим организмом; он ищет очаги спасения. Один из них-народный театр, он всегда выручает, меняются его формы, но неизменно остается одно свойство, как отличительное, жизненное: грубость. Глава книги Брука так и называется: "Грубый театр". "Преувеличение, {94} черная работа, шум, запахи, - перечисляет Брук, - театр, играющий не в специально приспособленных помещениях, а где придется: театр на повозках, театр в вагонах, театр на какой-нибудь платформе; зрители смотрят стоя, пьют, сидят за столиками, зрители подходят ближе, сами вступают в игру, артисты им отвечают; театр на задворках, в сараях, остановка только для ночевки..." ("The empty Space").
Так, мальчиком, я начинал: ширмы, куклы, кумач и фольга, помятые цилиндры, клоунские носы, прицепленные бороды, крашенные зеленым, рыжим, агитскетчи на грузовиках, подмостки из досок на площади, теплушка агитпоезда, шарманка, выкрик во всю глотку...
Такую школу я прошел; она меня научила отвращению к высокопарности; вспомнить ее я могу только добрым словом. Первые агитки двигались на хорошем горючем: простоте веры, задоре молодости и на запале, общем для всех левых художников - ненависти к академизму. Еще одно, пожалуй, можно добавить - сама нищета революционного искусства была прекрасной: фанера, клеевые краски, кумач-благородные материалы.
Долго в этой школе нельзя было засиживаться. Агитка кончала свой короткий век не из-за художественной убогости, причина была иной: мир перестал казаться простым; желание понять сложность вызвало к жизни совсем иные формы. Что же касается художественного качества - энергии, выдумки, напряженности приема, лаконизма, радости жизнеощущения,-то в первых работах оно было по-своему сильным. Но непосредственность, сила чувства стали угасать, тогда пошло в ход ремесло. А тут на складе появились бархат, мрамор, бронза. Разомкнулись своеобразные ножницы: чувства нищали, а материалы богатели. Образно говоря, раешник стали сочинять гекзаметрами: появились в этом деле и свои "академики". Маяковский отложил кисти РОСТА и написал:
Одного боюсь
за вас, и сам,
Чтоб не обмелели
наши души,
чтоб мы
не возвели
в коммунистический сан
плоскость раешников
и ерунду частушек.
{95}
11 БЕРЕМЕННАЯ ОФЕЛИЯ
То в чьих-то воспоминаниях, то в переписке молниями вспыхивают осколки замыслов Мейерхольда. Почерк строителя можно отличить по его любимым строительным материалам. Был и у Всеволода Эмильевича излюбленный: порох. Так и находишь теперь начало каких-то его трудов: кусок пьесы, а в него заложена взрывчатка, торчит бикфордов шнур-здесь он побывал. Ужас охватывал неподготовленных, не предупрежденных - бежать, скорее бежать!.. "Меня к себе в театр пригласил Мейерхольд, - прочитал я в воспоминаниях Н. А. Белевцевой, но после встречи с ним, надо сознаться, охота идти туда отпала". Что же так испугало артистку? "Натуралистично и грубо нарисовал он мне образ Офелии.
Офелия любит Гамлета, - говорил он, - но любит земной любовью. Она ждет от него ребенка, и здесь не следует заниматься лакировкой. Беременная, тяжелая, простая, без облаков". Нет и сомнений в том, что разговор передан точно, это его слова. Кто бы, кроме него, был так строг, даже суров к бедной дочери Полония? Если бы она и дальше разводила канитель со своими цветочками, то заведующий Тео Наркомпроса мог бы и часового с винтовкой крикнуть: тогда шутки с ним были плохи. Он воевал, шел в атаку. "Живот" (если "земная любовь", то, разумеется, и живот) был для него чем-то вроде камня: привязать его к штампам, чтобы утопить их поглубже. Стоит посмотреть старые фотографии театральных Офелий, и станет понятным, куда он метил. Он этих Офелий дегтем мазал, как ворота распутниц в старых деревнях. А как бы он стер с нее лакировку, вот уж где был бы блеск!
Репетиция стала бы трактатом "Брюхатые в истории живописи"; а письма Пушкина к Натали (на сносях)?-вот истинная лирика!-а роды-смерть маленькой княгини у Толстого? разве не подлинный трагизм?.. Стремительные движения рук дополнили бы слова, а потом, сняв пиджак, он поднялся бы на сцену... Овация грохнула бы в зале: сутулящийся, немолодой, горбоносый мужчина с взъерошенными волосами стал бы на глазах у труппы неопровержимо беременной, несомненной Офелией. И сгинули бы все Офелии- Гретхен с цветочками в распущенных завитых волосах. Долой "облака"! Никаких "облаков"!..
- Беременная?-спросил бы он завтра артистку.-Почему беременная? .. Кто это придумал такую нелепицу? ..
{96} Я горожу все что не на пустом месте. Подобное часто случалось в его режиссерской практике. Общеизвестна история с зеленым париком в "Лесе": на каждой дискуссии Всеволод Эмильевич придумывал замысловатые объяснения такого цвета волос. Почему зеленый?-Но это же цвет молодости. .. Эмблематическое значение гримов еще в Кабуки... Но однажды его ответа на тот же вопрос не последовало.
- Уберите этот парик,-раздраженно сказал он ассистенту после спектакля, и кому это могла прийти в голову такая идея? Зеленый! Почему зеленый? ..
Черепки - следы каких-то давних опытов - забыли убрать с лабораторного стола.
Вот стенограмма одной из репетиций "Ревизора" (разговор идет о внешности Хлестакова):
"Мейерхольд: Как вы мыслите голову?
Мартинсон: Видимо, он помадится.
Мейерхольд: Да нет... он лысый. Как биллиардный шар. Он с детства облысел... А то всегда Хлестакова делают амурчиком... Между прочим, все женщины любят лысых. Лысые пользуются колоссальным успехом у женщин. Например, Габриеле Д'Аннунцио. Я мечтаю, что Хлестаков - Габриеле Д'Аннунцио тридцатых годов..."