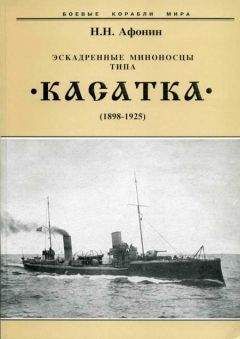Иван Подсвиров - Касатка
Где я, туда бомбы не кидают. Я заговоренная. Мне еще в четырнадцать лет старая цыганка нагадала: умрешь, мол, девка, своей смертью. Прозорливица, хитрющая была, сатана! Глазищами так и зыркает по углам, чуть зазеваешься - обязательно чего-нибудь сопрет. Да так ловко, что сперва и не дотямкаешь. А потом докажи. Не пойманный - не вор".
...Много дней моей жизни (может быть, самых лучших, изумительных, несмотря ни на что) было связано с Касаткой. Без нее я и не представляю своего детства, отрочества и первых лет юности. Без нее как-то тускнеют многие события, а лицам не хватает света, тепла, открытости... Возможно, теперь я преувеличиваю, ведь на расстоянии все нам значительно дороже, прошлое рисуется чудеснее, чем оно было на самом деле, - все так, не спорю, это одно из свойств человеческой памяти и сердца, и, однако, принимая оговорку во внимание, я искренен перед собою, когда так думаю о Касатке. Ко мне, если начистоту, является и противоположная мысль: возможно, где-то я и преуменьшаю, затушевываю ту естественную радость общения с ней, которую я испытывал прежде, не сознательно, разумеется, преуменьшаю, а в силу того, что и сам-то я изменился - наверное, почерствел и не могу передать в точности то первоначальное состояние своей души.
Вот ранняя, с глубоким, по пояс выпавшим снегом зима... Мороз, иней, снег переливается, синеет, дымится вдали, но это не радует марушан: в поле неубранной желтеет кукуруза. Дворами, семьями двинулись ломать кочаны. Вышел председатель колхоза Данило Иваныч в серой, ветром подбитой шинели, в заячьем ободранном треухе: нос сизый, усы белые, чувал болтается впереди, надетый наподобие фартука. По одно плечо от него - жена, по другое - председатель Совета Алимов, молчаливый, высокий, как жердь, в куцем, выше колен, драповом пальто.
Я стал между отцом и Касаткой. Едва пробиваюсь вперед с мешком, тащу его волоком, веревка врезается в шею. Иногда проваливаюсь в снег по пояс. В валенки набирается белой крупы, она тает и неприятно холодит пятки. Ломкие листья кукурузы рябят перед глазами, задевают и порою больно, чуть ли не до крови режут щеки, нос... Зато початки, со смерзшейся рубашкой и светлокоричневыми волосками, отламываются с хрустом, легко.
Вот только руки на ветру коченеют, приходится часто отогревать их дыханием, которое тут же превращается в иней на бровях. Касатка все время кряхтит, подбадривает меня:
- Федь! Живей поворачивайся, кровь надо разогнать. Тогда нам любой мороз - не мороз!
Она вся укутана пуховым платком, оставлены лишь щелки для глаз, которые блестят живо, светло, молодо.
- Не робей! - она толкает меня в бок. - В войну не то было. Спроси у матери. Она не даст сбрехать.
Когда же я отстаю, Касатка вламывается в мои ряды, шуршит листьями, с удалью, с неимоверной проворностью схватывает со стеблей початки и, будто выловленных в реке усачей, ловко запускает в чувал. Она уже девять раз бегала к бричке и ссыпала в нее кукурузу (я про себя веду счет), а я всего шесть, да и мешок мой наполовину уже ее огромного чувала. На него даже глядеть страшно.
Скоро я перестаю чувствовать холод, во мне копится тепло: либо мороз сдал, либо я, увлекшись соперничеством с Касаткой, заразившись ее бодростью, разогрел кровь. Касатка заводит свою любимую песню:
По лугу лугу вода со льдом,
По зелену золота струя струит.
Сначала она берет тихо, едва слышно, потом забывается, голос ее крепнет, гудит, набирает силу. Поет она душевно, с чувством, но тянет не туда и слишком высоко для своего низкого, как бы навсегда простуженного голоса; люди, слушая ее, потихоньку, добродушно пересмеиваются.
Струйка за струйкой - сама лебедь плывет,
Белая лебедушка - девушка,
Белая лебедушка - девушка,
Ясный соколичек - молодец...
Поет, шуршит - и пальцы все проворнее летают от стеблей к мешку, будто ими подыгрывает себе.
"Где его не увижу - по нем сердце болит, Где его увижу - сердце взрадуется, Кровь во лице разыграется, Косточки, суставчики рассыпаться хотят, Рассыпаться хотят - поздороваться велят".
"Ты здорово, черноброва,
Здравствуй, ягода моя,
Здравствуй, ягода моя,
Скажи, любишь ли меня?"
Когда она доходит до этого куплета, смех повсюду стоит в заметенной сугробами кукурузе: его вызывает и "черноброва ягода", которая так не похожа на Касатку, и ее неумелое исполнение. Закончив песню, Касатка будто опоминается, осознает причину всеобщего оживления, прячет за листьями укутанное в платок лицо и стыдливо бормочет, ругает себя:
- Во распелась, дура! Как волчица на косогоре...
Страму набралась.
Однако ее песня всех развеселила, сплотила - и работа загорелась дружнее, жарче. Председатель Совета сказал Даниле Иванычу:
- За такую самодеятельность надо Касатке премию выдать. За душу взяла...
- Обдумаем. - Данило Иваныч рукавицей стер пушистый иней с усов. Предложение дельное.
И точно: месяц спустя на общем колхозном собрании под духовую музыку ей вручили почетную грамоту и суконный отрез на юбку.
А на исходе того дня, в редких сумерках, когда мы приближались к краю загонки, Касатка вдруг потянула меня за рукав фуфайки, заговорщицки подмигнула:
- Пригнись...
Не успел я сообразить, что ей надо, а она уже расстелила платок на снегу и, став на колени возле него, вынула из мешка пару початков и принялась тереть их, ловко вращая в ладонях: крупное золотистое зерно брызнуло на платок.
- Рушь! - почти властно приказала она. - Чего уставился? Думать надо, не маленький... Мать дома каши сварит.
С дрожью, посматривая в сторону председателей, я тоже схватил пару початков, а она шепнула:
- Не бойсь. Что они с тобой сделают? Ты дитё, с дитя и взятки гладки... Возьмешь ее, - тут же со спокойной деловитостью дала она мне наставления, - под кручу, к Касауту спустишься. Вроде воды напиться, и бережком, бережком домой.
- А если объездчик... Крым-Гирей перестренет?
- Ну и ляд с ним, нехай... Что он, за пазуху тебе полезет? Не бойсь, дурачок. Там тебя сам леший не встренет. Уже вон смеркается. Кого нечистая на Касаут потянет? Ты головой рассуди, не энтим местом. - И тихонько, ехидно подхихикнула, окидывая меня своим бесовски-молодым взором.
Она собрала кукурузу в узел, присыпала снегом кочерыжки и велела мне заправить рубашку, потуже подпоясаться. Сама расстегнула у меня на рубашке верхние пуговицы и сыпанула за пазуху холодноватое, льдистое, защекотавшее кожу зерно.
Люди стали выбираться на дорогу, а я с благословения Касатки двинулся по кукурузе в обратном направлении, страшась оглянуться назад. Шел и думал: вот-вот окликнут, и я пропал. Кажется, в мою сторону один раз глянули Данило Иванович с Алимовым, сердце у меня екнуло, ушло в пятки, я присел, однако все обошлось. Пронесло... Я ждал, что Касатка явится за своей долей, она же и не собиралась заходить, тогда я сам напомнил о кукурузе и получил от нее такой ответ:
- Ты нес, она твоя. А поймали б тебя, дознались - вдвоем бы ответили... Рисковать, сынок, надо. Без риска не проживешь.
В ту зиму умерла бабушка. Умерла при несколько странных обстоятельствах, в лютые крещенские холода.
Поздними вечерами с реки бухали короткие выстрелы:
стрелял, лопаясь от мороза, лед. Бабушка вздрагивала, не умея спокойно переносить их, крестилась и вслух начинала перечислять всех наших усопших и убиенных родственников, заговаривала о своей смерти и просила отца похоронить ее возле дедушки, о котором я не имел ровно никакого представления: его не стало еще в гражданскую.
Чаще обычного к нам заглядывала Касатка: придет, взберется на печь к бабушке и, не снимая фуфайки и шерстяных носков, сидит, вполголоса ведет беседу с нею. Иногда бабушка спросит:
- Что ж, девка, замуж не выскочишь? Или женихи стали дюже разборчивые?
- Девичество не напасть, лишь бы замужем не пропасть!-в тон ей ответит Касатка. - После Миши мне, Ильинична, и глядеть на них тошно. Жених бывает один.
Пропал - и невеста зачахла... У меня одна заботушка:
детей доглядеть. Вон Коля ОЗУ кончает, а я ему гражданского костюма не справлю. Хочь ты лопни. И Дине тоже давай: то книжку, то ботики. Злыдни, проклятые, заедают. Никак денег не накую.
- Во-во, невеста, крутись, - с состраданием вздохнет бабушка. - На том свете нам всем по заслугам воздастся. Всем до одного.
- А мне и на этом, Ильинична, неплохо. Жалиться грех, ей-право. Другим небось похуже.
- Да уж куда хуже, - печалилась бабушка.
И вновь напоминала Касатке о предчувствии своей близкой кончины, наказывала шепотком:
- Смотри последи: нехай положат меня с Ванюшкой, с мужем. Соскучилась я по нем. Он хочь и бил меня под горячую руку, но и жалеть умел. Да и хозяин - за всех нонешних. Мало вот пожил: убили. Царство ему небесное.
- Я что-то, Ильинична, не помню, кто убил. Выветрилось.
- Кто их разберет: чи белые, чи зеленые. На выгреве подстрелили. Вылетел он на выгрев, а жеребец под ним белый, молодой, не идет - играет. Во всех жилках кровь горит. Заметили, видно, жеребца и выстрелили по Ванюшке из балки, чтоб себе коня присвоить. Ванюшка упал, а конь им в руки не дался, прибег домой... С мужем похороните! - опять предупредила бабушка.