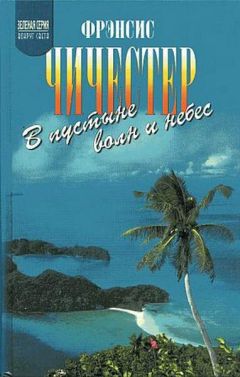Нина Берберова - Курсив мой (Главы 1-4)
И все-таки я не была влюблена в него. Правда, иногда я мечтала о том, что он сделает мне предложение и я стану его женой, буду чистить его сапоги, гладить пиджаки, готовить ему обед, развлекать его, дарить ему каждый день что-нибудь и обожать его до гроба. Но я мирилась с невозможностью такого будущего очень легко. Был ли он женат, мне было неизвестно. Что он находил во мне, почему тратил на меня время - я никогда не узнала. Но два года продолжались эти воскресные свидания.
- Вы говорите о ботанике? - спросила как-то мать.
- Нет, мы говорим о Гиббоне и Паскале.
- О ком?
- О Гиббоне и Паскале, - повторила я.
Она ничего не ответила. Иногда я брала с собой Наташу Шкловскую, она тоже любила слушать его. Тогда мы вдвоем сидели перед ним, как цыплята на жердочке, а он ходил по комнате. Хотелось, чтобы это продолжалось вечно.
Возможно, что именно в эти годы мой протест против всякой дихотомии принял реальные формы. Он был во мне и раньше, но постепенно и частью бессознательно я стала искать "аккорда" - я еще не знала, какой он будет, в каком ключе и какой гармонии. Я не только психологически, я физически требовала его. Аккорд мог оказаться чем-то похожим на бетховенский, в патетической сонате, или на вагнеровский, в "Тристане", я не могла сделать его или придумать, я могла только знать, что он необходим, и ждать, когда он прозвучит для меня. Я физически, всем своим организмом, реагировала на всякое раздвоение, на двойственность и дуализм. Координация стала во мне какой-то постоянной потребностью, фиксацией, и чем дальше я жила, тем я все более ощущала некое чисто физическое чувство тошноты (в соединении с мгновенным чувством смертельной скуки), когда мне случалось вдруг заподозрить себя самое разрезанной надвое какой-нибудь проблемой, потерять хотя бы на минуту благословенное ощущение шва. И я говорю здесь об этом не метафорически: тошнота, поднимающаяся во мне при ощущении раздвоения в любой форме, сопутствует мне сквозь всю жизнь, и пробный камень физиологической реакции еще никогда не подвел меня.
Социальные проблемы, которые волновали меня, волнуют и сейчас, в тот год российской революции были по природе своей дихотомичны (двусмысленны, двуостры) и мучили меня чрезвычайно. Я думаю, что все тогда мучились ими, то есть все люди с совестью и мыслью. Потому меня до сих пор волнует чтение дневников Блока того времени, что я вижу в них то же самое наше общее слепое кипение, где любовь, вернее - жалость к дальнему, отвращение и страх к ближнему, тяжелое чувство общей вины, непоправимости всего сливались в тоске всеобщего бессилия. Принято говорить о пропасти между интеллигенцией и народом. Не пропасть, а слишком большая связанность была между ними, связанность двух частей одного целого в роковом чувстве вины одной половины перед другой, в дихотомии трагической чуждости этих двух, искусственно спаянных между собой частей. Почему одна отвечала за другую? Почему одна каялась перед другой? Нужно было не ходить в народ и каяться, а строить железные дороги, прививать оспу и в массовом масштабе печатать буквари для насильственного обучения.
Я только смутно сознавала тогда все это и больше физически реагировала на противоречия, чем интеллектуально, то есть ощеривалась внутри, настораживалась, "извергала" легкий ответ, который хотел внедриться в меня, отрицала, что есть два ответа на один и тот же вопрос, что какие-то проблемы имеют право быть не решены, какие-то туманы не рассеяны. Что есть мысль и чувство, добро и зло, там и здесь, и так далее, в то время как мысль есть мысль и чувство, зло - отсутствие добра, а добро - отсутствие зла (в человеке, как и вообще в природе, потому что человек есть часть природы), а там никакого нет, а есть только великий миф, изменяющийся и неизменный в своей цельности, та игра, без которой жизнь человека делается сухой, плоской и скучной, игра, нужная человеку, как всякий символизм, как смех, как слезы, как восторг, как потрясение ужасом и блаженством, как сны.
Год мой в последнем (седьмом) классе гимназии был годом великих событий, годом Октябрьской революции, Брестского мира, "Двенадцати" Блока, а заодно и Моей первой любви (а также, кажется, и второй, и третьей), годом интенсивной дружбы с Наташей Ш., годом тревог о социальном неравенстве людей, политики, заполнившей жизнь, и первых лишений. Из нашей, все еще благополучной, и просторной, и чистой квартиры я тогда шагнула впервые в ад чужой бедности, так долго таимой от меня. Конечно, я всегда знала, что не у всех людей на свете есть отбивные котлеты, здоровье и крахмальные воротнички, папа и мама, живущие в мире, но я не видела их близко, я только читала про них. Не помню, почему именно мне пришлось отправиться с тридцатью тетрадками домашнего сочинения "Базаров как тип" к учителю русской литературы, Василию Петровичу Соколову, на дом, - видимо, мы не сдали их вовремя, наступили рождественские каникулы, и мне поручили это сделать. Он жил в каком-то переулке на Петербургской стороне, где я до тех пор никогда не бывала. Сам он был человеком без возраста, внешностью напоминавший Передонова, ходил в желтом целлулоидном воротничке, волосы его были масляными, а усы совершенно рыжими, и к каждому слову он прибавлял: "ну-те-с". Мы так и прозвали его Нутесом. Сюртук его был грязен, ногти черные, нос картошкой. При всем этом он был огромного роста, сутулился и смущался, но его так, несмотря на это смущение, боялись, что в классе на его уроках стояла мертвая тишина, а две сестры-двойняшки Кругликовы плакали навзрыд, как только он их вызывал к досге, хотя им и было по семнадцати лет. Чувства мои к нему были несколько странного свойства: он был мне противен, но не страшен, вместе с тем я не могла не заметить, что стихи он читал по-нашему, то есть не по-актерски, и когда говорил о "Медном всаднике" (связав его с "Анчаром"), то ему пришлось после чтения громко высморкаться в грязный носовой платок, от чего у меня у самой увлажнилось в носу. "Нутес, кажется, раскис", - шепнула мне Наташа, которая сидела, конечно, на одной парте со мной. Но его слова о том, что "Медный всадник" и "Анчар" - об одном и том же (власть человека над человеком), глубоко запали в меня, и я стала думать о Нутесе и была рада, что вот иду к нему, увижу, как он живет, и, может быть, поговорю с ним о новых поэтах.
Дом был старый, узкий и высокий, в темном вонючем переулке, вход был со двора, где два бледных мальчика в лохмотьях старались съехать на домодельных санках с черной снежной кучи. Я вошла в узкую дверь и стала подниматься по лестнице, скользкой от помоев, где удушливо и сладко пахло кошками. Некоторые двери были едва притворены, и из-за них доносились звуки: крики, ругань, пьяные всхлипы, детский плач, дикое пение каких-то куплетов, визг избиваемой собаки, бормотание не то молитвы, не то заклинаний. Кто-то громыхал чем-то тяжелым, рвался пар от стираемого белья. Все было черно, липко и гнусно. Из одной двери высунулась женская голова: лицо было красно и, кажется, пьяно, волосы растрепаны, незастегнутая кофта открывала серую, повисшую до пояса грудь. Она на одно мгновение отпрянула, увидев меня, потом протянула обе руки и мгновенно ощупала меня. Я бросилась назад от запаха, шедшего от нее, от брезгливой дрожи, потрясшей меня. Дверь захлопнулась. Наконец я нашла квартиру номер 29, из клеенки торчала мочала. Звонок продребезжал и смолк, это был хриплый, медный, какой-то Достоевский колокольчик. Раздались шаги, и Нутес открыл мне. На нем был тот же целлулоидный воротничок и тот же сюртук, но манжеты были сняты. Воздух квартиры был тяжел: пахло кислой капустой, прошлогодней жареной рыбой (с великого поста), чем-то тушенным на сале, луком, дымом печки, странным запахом сырости, в который вплетался струйкой какой-то химический дух - не то средства от моли, не то средства от тараканов, а вернее всего - от клопов, потому что с каждой минутой он становился все резче, убивая кухонные запахи и торжествуя над ними в горле и в носу. Нутес ввел меня в комнату, похожую на столовую. Посреди стоял стол, накрытый грязной клеенкой, старой и облупленной, как будто кто-то вечерами долго колупал ее, выводя рисунок. Направо стоял буфет, а налево - старые ширмы, с нарисованным на них китайским болваном, у которого чьим-то пальцем был проткнут толстый живот. Было сумеречно, но он не зажег света и не предложил мне сесть.
- "Базаров как тип", - сказала я. - Вы просили вам принести.
- Ну-те-с, - сказал он и взял тетради. Через минуту он спросил:
- А что вы читаете?
Я ответила, что "Карамазовых".
- А из поэтов?
- Блока.
Он посмотрел на меня и вдруг сказал:
- Это хорошо.
Я почувствовала, как внутри меня начали распускаться цветы.
- Культ вечной женственности. Гете знаете? Я сказала, что да.
- Обратите внимание на конец "Фауста". А Владимира Соловьева читали?
- Немножко.
- Прочитайте. Там у него про вечную женственность. А у Блока любите: "Но ты, Мария, вероломна"? "Он на коленях в нише темной", - продолжала я.