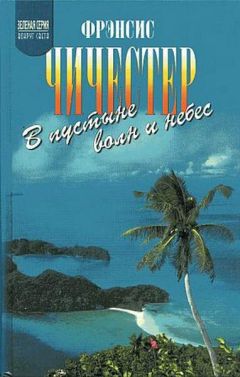Нина Берберова - Курсив мой (Главы 1-4)
Как я сказала в начале этой книги, вопроса о смысле жизни отдельно от самой жизни для меня нет. Жизнь для меня и была, и есть переполнена значением. Бытие есть единственная реальность, ничего не лежит за ней. Мы ничего не отражаем, мы никуда не прорываемся, мы - здесь и только здесь, и только сейчас что-то значит. Расшифровать смысл реальности (внутри меня и вовне), найти нити, связующие отдельные стороны этого смысла друг с другом и с целым, всегда казалось мне необходимостью. Таким образом, сама жизнь становилась своим смыслом, не в абстракции, но в моем собственном конкретном взаимоотношении с моим временем, которое для меня состоит из пяти-шести мировых событий и пяти-шести мировых имен. Каждый день приносил мне что-то, что я была в состоянии взять с собой в ночь, открывая в мире что-либо схожее с тем, что было у меня внутри, иногда объясняя мне меня, но чаще раскрывая мне мой собственный факт в соответствии с фактом мира. Моей задачей с годами стало: совлечь с себя по возможности все хаотические черты, угомонить анархию, расчистить путаницу и двойственность, которые, если их не унять, разрушат человека. Я вижу жизнь не в пространстве вообще, а в определенной географической точке, не во времени, а в истории. Не среди подобных или ближних, но среди выбранных или даже избранных, и потому приноровление к миру и людям есть для меня радость, потому что в нем есть элементы внутреннего порядка и развития. В положенных рамках рождения и смерти (единственно детерминированных) я ощущаю полностью и свободу воли, и свободу выбора, той внутренней воли, которая во столько же раз важнее и больше обстоятельств, во сколько раз разумный человек сильнее щепки, плывущей в волнах. Я знала очень рано, что с разумом не рождаются, что "разум свой мы постоянно сами создаем", по слову Чаадаева. И я училась, как умела, создавать его, училась и учусь до сих пор, и все мне мало, потому что, только познавая, человек живет в связи с вечностью, в координации с событиями и именами. Так, я стою перед картиной Рембрандта "Аристотель, созерцающий бюст Гомера" и чувствую цепь (схожую с той цепью, что надета на груди центральной фигуры), крепко держащую Гомера, Аристотеля, Рембрандта и меня, стоящую перед картиной. Словно сеть артерий и вен несет кровь от одного, через другого, к третьему и наконец - в мои собственные жилы. Мы все стоим в одном ряду, который нерушим, если я сама не нарушу его. Но я не нарушу его потому, что удар тепла дается мне этой кровью, бегущей через меня, которой я жива, и открывает мне двери и к суждениям, и к импульсу воображения, а они в свою очередь дают возможность сделать своей всю сложную систему символов и мифов, которыми жило человечество с того первого дня, когда поклонилось солнцу. С тех пор проделан путь огромный - от огнепоклонников к Фебу-Аполлону и через Христа к тому, что мы понимаем под словами "цивилизация - это тепло".
И я часто мысленно говорю людям:
- Дайте мне камень. А уж я сама сумею сделать из него хлеб. Не беспокойтесь обо мне. Я хлеба не прошу. Только протяните мне вон тот булыжник, уж я знаю, что мне с ним делать.
Я сейчас смотрю на годы моего детства без малейшей "дымки грусти", без меланхолической слезы о "навеки утраченном". Все мое прошлое со мной, в любой час моей жизни. Вся прелесть его для меня в том, что оно дало жизнь моему настоящему. Так же, как когда-то, я иногда сажусь перед окном и теперь и смотрю на улицу, огни и крыши, или на деревья и облака, или на черту горизонта. И так же слушаю, как кровь бежит по моим жилам и как все биения и шумы во мне соответствуют ритмам в мире. И я сознаю, что я живу, что живу живая, что добивалась в жизни не счастья, а интенсивности чувства электрического, живого тепла. Сознаю, что корни всех поздних раздумий - в моих ранних годах, корни всех поздних страстей - в детских бессонницах. Что все, что мною разгадано теперь, было загадано тогда. Что судьба моя была (и есть): развитие и рост, как всякая судьба живого. Что ничего не отошло, но, наоборот, присутствует и преображается вместе со мной. И что все, что построено на основе прошлого, находится в полном соответствии с этой основой. И в этой мысли - мое назначение, мое значение, мой рок и мой урок.
2. Бедный Лазарь
Я приступаю к трудному и серьезному делу: с помощью Даши начинается мытье моих кос. Колонка в ванной гудит, печь раскалена, краны поют, в расписном фарфоровом кувшине булькает вода; наклонившись над ванной, я смотрю, как волосы, словно неподвижные, темные водоросли, лежат на ее дне. Даша льет тяжелую струю мне на темя. Это продолжается долго. Потом она вторично мылит мне голову огромным, громоздким куском желтого мыла. Он два раза падает, один раз в ванну и один раз на пол, и долго играет с Дашей в прятки, пока она ползает вокруг меня и наконец шваброй достает его из-под ванны. Я терпеливо стою, наклонившись. Наконец волосы начинают скрипеть признак, что они чистые, и Даша безжалостно наматывает их себе на руку, крутит и выжимает их, как будто это полотенце или тряпка. Она накидывает на меня что-то мохнатое и теплое, и тогда все вокруг начинает греметь: Даша споласкивает ведро, ставит все на свое место, тарахтит эмалированными тазами, напуская пар из горячего крана. Я иду к себе, она идет за мной, и, когда я усаживаюсь за стол и утыкаю нос в книгу, она ставит на пол у стула какой-то ушат, чтобы с меня не натекала на пол лужа. В этом есть что-то унизительное.
Пятница, 9 марта (благодаря старому календарю февральская революция произошла в России в марте, а октябрьская - в ноябре). В городе беспорядки. Завтра у нас званый вечер, и мать боится, что разведут мосты, что Сергей Алексеевич и Юлия Михайловна не смогут приехать с Каменноостровского и что из кондитерской Иванова не пришлют мороженое. Мне это впопыхах тоже кажется катастрофой, но внезапно я оказываюсь в совершенно другом измерении, и мне открывается иной мир: мир, где нет ни Юлии Михайловны, ни кондитерской Иванова, мир, где гремит Россия, где идут с красными флагами, где наступает праздник.
Все чаще и чаще я теперь знаю это ощущение: это выпадение из нашего обычного измерения в иное. Там другие законы: там тела имеют иной вес и иные взаимоотношения, и ценности там иные; там новые "нельзя" и "можно", и мне там весело, и страшно, и соблазнительно остаться там навсегда.
Гости съехались к десяти часам вечера, их было около тридцати. Я любила всегда, и до сих пор люблю, чужое веселье. Впервые мне было позволено остаться до конца, то есть до пяти часов утра, и я слышала, как Волевач, сопрано Мариинской оперы, пела "Лакме", и видела, как танцевали модный танец танго. Все было так далеко от меня и все-таки так интересно, как и теперь бывает, когда кругом танцуют или пьют чужие люди, почти так же интересно, как когда пьют и танцуют свои. Своих в мире мало. Громадный пароход пересекает океан, на нем тысячи две людей и ни одного своего; в огромной гостинице, на побережье зеленого моря, толпы людей - едят, разговаривают, ходят туда и сюда - и ни одного своего. Это в порядке вещей, и все-таки хорошо быть в толпе и, едва касаясь людей, проходить с улыбкой на лице из своего в свое, стараясь никого не задеть. И в ту многозначительную субботу - последний день старой России за шумным ужином в столовой для меня само собой разумелось, что я не могу в силу каких-то законов, которые я сама признала в незапамятные времена, - что я не могу ни с кем из присутствующих иметь что-либо общее. Я была среди них, но я не была с ними.
Мне и сейчас еще кажется какой-то фантасмагорией та стремительность, с которой развалилась Россия, и то гигантское усилие, с которым она потом поднималась - сорок лет. Тогда на верхах люди просто бросали все и уходили: сначала царь и его министры, потом кадеты, потом социалисты. Оставались самые неспособные и неумные, пока не провалились в тартарары и они. От святых (вроде кн. Львова) и до бесов, имена которых всем известны, все были тут налицо, вся гамма российских бездарностей, слабоумцев, истериков и разбойников. А главный виновник всего, тот, который дал России опоздать к парламентскому строю на сто лет, тот, который не дал возможности кадетам и социалистам выучиться ответственному ремеслу государственной власти или хотя бы ремеслу оппозиции государственной власти, тот, кто вел страну от позора к позору двадцать три года, кто считал, что, прочитав в день коронации молитву "помазанника", он, принимая символ за реальность, стал действительно этим "помазанником", никакой так называемой мученической смертью не заплатил за свои ошибки: они остались при нем. То, что можно платить смертью за жизнь, есть предрассудок, апеллирующий к чувствительности чувствительных людей. Смертью за жизнь не платят. Она сама есть часть жизни. И хотя мы все, в унисон, шлем проклятия нашему Камбизу тридцатых и сороковых годов, во всех российских несчастьях прежде всего и больше всего повинен царь.
Чтобы в наше время вообразить себе характер старого режима, далеко ходить не надо: достойный выученик Николая Второго еще жив и продолжает царствовать в Абиссинии, и не надо быть особенно проницательным человеком, чтобы понять, что если бы в России не было сопротивления самодержавию (и не было бы революции), то при наличии таких царей, как Романовы, Россия была бы сейчас огромной механизированной Абиссинией, с тонким слоем интеллигенции, вероятно, выселившейся бы в какую-нибудь другую страну, если бы Россия вообще была. Даже в Саудовской Аравии (где правят муллы) есть планирование, но русский царь вряд ли бы дошел до этого. Десять процентов грамотных, как среди подданных Хайле Селассие, - вот что ожидало Россию в двадцатом веке - если помазанник понимал себя не как метафору, а как реальность. Николай Второй жил в убеждении, что Бог реально мазал его и строго запретил делить власть с кем бы то ни было - см. вышеупомянутую молитву ["Я несу за все власти, мною поставленные, перед Богом страшную ответственность, и во всякое время готов отдать Ему в том ответ". Письмо царя к Столыпину. Цитируют Коковцев "Из моего прошлого" (стр. 238) и Маклаков "Вторая Государственная Дума" (стр. 40). Замечу здесь, кстати, что абиссинские принцы (как и сиамские принцы) получали образование в привилегированных учебных заведениях Петербурга.].