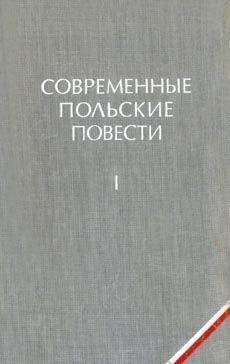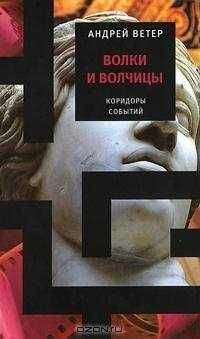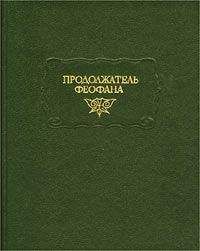Юрий Герман - Один год
- Да, - сказала Бочкова.
В первом часу ночи вернулся Бочков. Увидев у себя в комнате начальника, он смутился, но скоро повеселел, сел возле горячей кафельной печи на стул верхом и молча пил чай стакан за стаканом.
- Вы заходите, - говорила Бочкова, провожая Лапшина по коридору. - Или, хотите, я к вам зайду?
- Ладно, зайдите, - сказал Лапшин. - А завтра пришлите мне заявление и справки там, какие нужно. Ну, будьте здоровы!
Захлопнув за собой дверь, он сразу почувствовал себя дурно. Это был еще не настоящий припадок, не форменный, это было еще нечто такое, что можно "разгулять", как выражался Лапшин про себя, но ошибиться он не мог. Ломота в затылке и в плечах, судорожное и частое позевывание, настойчивый звон и мелькание в глазах - последствие тяжелой контузии тогда, на кронштадтском льду, "оно" всегда накатывало невесть почему, и никогда нельзя было знать наперед приближение этой пакости.
Облизав губы и посчитав до десяти, испытывая, как всегда в этих случаях, острую, неутолимую жажду, Лапшин начал медленно спускаться по лестнице. Разумеется, он мог еще вернуться к Бочкову и вызвать машину или позвонить в санчасть, но все это было стыдно, и было страшно, что настоящий припадок с потерей сознания и со всем тем, что этому сопутствует, произойдет у Бочковых, обеспокоит и напугает их.
На улице, на холоде, ему стало несколько легче. Только ужасно хотелось пить, с каждой секундой все сильнее. Из-за угла вынырнуло такси, он попытался остановить машину, но шофер газанул и исчез из виду.
Неподалеку, на углу канала Грибоедова, был ресторан-подвальчик, в просторечьи "под тещей" или "шестерка". Оттуда можно было позвонить по телефону, но, спустившись по ступенькам, Лапшин подумал, что сначала попьет боржому, передохнет, а потом, если "оно" не отпустит, - позвонит.
Едва только ему принесли две бутылки минеральной воды, сквозь стеклянную дверь он увидел, как лысый и усатый гардеробщик приветливо снимает пальто с барашковым воротником с человека, чем-то знакомого. Напрягшись, Лапшин вгляделся и узнал Жмакина, Алешку Жмакина, по кличке "Псих".
По-прежнему мучительно ломило в затылке и неприятная зевота заставляла стискивать челюсти, но теперь Лапшин, не мог уйти, не задержав Жмакина. "Ничего, справлюсь! - думал Иван Михайлович. - Доведу. Да и лучше мне как будто, бывает же, проходит".
Конечно, он мог позвонить дежурному, но для этого надо было идти в кабинет директора, а Жмакин в это время мог его заметить и исчезнуть. Нет, нужно сидеть за столиком и попивать боржом как ни в чем не бывало...
Жмакин швырнул кепку и медленно пошел по залу. Все было так же для него, наверное, совсем так же, как и раньше, - и буфетная стойка, и папиросный дым, и моряки в тигровых джемперах, и дирижер с набрякшим, бессмысленным лицом.
"Оглядывается, - думал Лапшин. - Беспокоится!"
Не торопясь, Иван Михайлович слегка переставил перед собой вазу с искусственными бордовыми розами и, закурив, стал смотреть на Жмакина, который бродил по залу, отыскивая свободное место. Глаза Жмакина поблескивали, наверное он уже выпил нынче и сейчас пытает судьбу, появившись в "шестерке", - возьмут сразу или не возьмут, пропадет с ходу жизнь молодая, или еще наворочает делов. "И страшно ему, и весело сейчас, - думал Лапшин про Жмакина, - а что веселого ждет его? Ах, дурак, дурак парень!"
Но Лапшин ошибался.
Жмакину не было сейчас ни весело, ни страшно. Азарт былых юношеских годов кончился. Нужно было найти хоть кого-нибудь из старых дружков-корешков, напасть на след, встретиться со своим человеком. Но никого тут не обнаружив, он подошел к буфетной стойке и ткнул пальцем в большую стопку - выпить и уйти.
Буфетчик налил.
Жмакин поднял стопку почти ко рту и даже немного запрокинул голову, как вдруг заметил невдалеке нечто страшно знакомое, заметил и тотчас же потерял. Это Лапшин отставил вазу с цветами и вновь спрятался за ней. Пригубив водку, Жмакин поставил стопку на поднос и принялся разглядывать пьяные, красные, возбужденные лица - от одного столика к другому. Но то, знакомое, исчезло, и он, решив, что ошибся, и даже облегченно вздохнув, нащупал сзади себя на подносе стопку и опять было пригубил, как то знакомое, страшно знакомое вновь мелькнуло, но уже больше не скрывалось - он успел заметить бордовые розы и веселые, насмешливые, светлые глаза.
"Шалишь, мальчик! - думал Лапшин. - Сам ко мне придешь!"
Медленно бледнея, Жмакин выпил наконец свою водку, закусил маринованным грибом, расплатился и, чувствуя слабость в коленях, пошел к столику с дурацкими розами. У него достало сил смотреть прямо перед собой, и он глядел вниз на нечистую скатерть, на пачку дешевых папирос и на бутылку боржома, не допитую и до половины.
- Ну, садись, Жмакин, - сказал ему негромкий насмешливый знакомый голос. - Присаживайся. С приездом! Боржомчику налить?
Он сел и наконец взглянул на Лапшина, ожидая увидеть его живые, полные насмешливого блеска, ярко-голубые глаза, но в них, в самой глубине зрачков, Жмакин увидел поразившее его выражение растерянности и страдания, так несвойственное Лапшину. И лицо Лапшина стало иным - с пепельным оттенком, только во всем облике сохранилась твердость, даже жестокость, как бы отдельная от той муки, которую Жмакин увидел в первые секунды.
- Сорвался? - тяжело, с напряжением спросил Лапшин.
- Что вы! - все еще вглядываясь и не веря себе, произнес Жмакин. - Что вы! Смеетесь!
Это у него была такая манера - в разговорах с большим начальством прикидываться простачком-дурачком, польщенным, что с ним шутят.
Он уже овладел собой понемногу. Слабость в коленях прошла. Конечно, он правильно сделал, что подошел, - бежать от Лапшина бессмысленно. Да и не могло ему прийти в голову, что Иван Михайлович здесь один - без своих сотрудников. Но только почему он так изменился - этот Лапшин?
- Значит, не сорвался?
- Что вы!
Надо было оттянуть время и придумать - но что?
- Значит, за пять лет просидел всего месяца четыре?
- Что вы...
- Так как же...
- Гражданин начальник...
- Выдумывай побыстрее!
- Я оттуда в служебную командировку прибыл...
Лапшин не глядел на него - глядел в стакан, в котором быстро и деловито вскипали пузырьки. Жмакин врал. Конечно, Лапшин не мог поверить, да он и не верил. Настолько не верил, что даже документы не спросил.
- Ах ты, Жмакин, Жмакин, - сказал он вдруг с растяжкой и небрежностью, - ах ты, Жмакин...
Несколько секунд они оба глядели друг на друга.
- Ах ты, Жмакин, - повторил Лапшин, но уже с какой-то иной интонацией, и Жмакин не понял с какой.
И опять они помолчали.
- Ожогина мы расстреляли, - сказал Лапшин, - и Вольку Матроса расстреляли. Слышал?
- Нет, не слышал.
- На бандитизм пошли ребята, четыре убийства взяли. А начали вроде тебя, с мелочей. Хорошие были ребята, жалко.
- Это вам-то жалко?
- Мне - жалко! - подтвердил Лапшин. - Предупреждал, как тебя: кончится плохо, мальчики, будем вас расстреливать, избавим советское общество...
Жмакин усмехнулся:
- Пожалел волк овцу!
- А Волька с Ожогиным сявки были? - серьезно и жестко спросил Лапшин. Или, Жмакин, ты с ними не поругался за здорово живешь? Я знаю точно - ты с ними на бандитизм идти не хотел, более того, они даже думали, что ты их Бочкову продал.
- Я не сука! - сказал Жмакин. - И не покупайте меня, начальник, на задушевный разговор, не продается.
- Глуп ты, Жмакин! - вразумительно, но словно бы даже со стоном в голосе произнес Лапшин и с трудом, опираясь на стол, поднялся: - Глуп! сердясь на себя, добавил он, и Жмакин заметил, что все лицо Лапшина в поту. - Пойдем! - велел он. - Пойдем, я тебя посажу.
"Вроде совсем ему худо? - подумал Жмакин. - Помирает, может быть?"
Но Лапшин не собирался помирать. Сцепив зубы, он вышел вслед за Жмакиным на Невский. Дикая боль в затылке и судорога в плече не отпускали его больше, в голове стучали молотки, он уже плохо соображал, но все-таки шел ровной, спокойной походкой мимо Дома книги, мимо аптеки, что на углу Желябова, - шаг за шагом, только бы дойти, довести, не упасть.
- Гражданин начальник! - сиплым от волнения голосом сказал Жмакин где-то возле плеча Лапшина. - Отпустите меня, я в тюрьме удавлюсь.
- У нас в тюрьме нельзя вешаться! - не слыша сам себя, сказал Лапшин. Мы запрещаем.
- Повешусь...
Уже открылась им обоим площадь из-под сводов арки. Фонари горели через один, в молочном теплом свете среди летящего снега смутно вздымалась колонна, а за нею чернела громада дворца. И небо было видно - сплошная чернота, и автомобили, огибающие площадь, и маленькие фигурки людей...
Лапшин вдруг остановился, словно задумавшись, прислонившись плечом к стене.
- Отпустите меня, начальничек!
Иван Михайлович молчал, вобрав голову в плечи и, казалось, вглядываясь в Жмакина из-под лакового козырька фуражки. Снежинки садились на его небритую щеку возле уха.