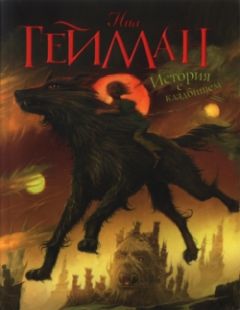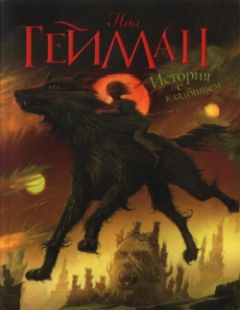Афанасий Фет - Проза поэта
На другой день Гольц, подойдя к шкафу и найдя бутылку порожнею, не сказал ни слова. К обеду он уже не приносил вина, а пришел сильно пьяный. С этого дня он окончательно уклонился от домашнего надзора и на всей свободе предался публичному пьянству. Он потерял стыд.
Знающий всю городскую подноготную, Сидорыч скоро пронюхал, что ветеринар закутил. Пользуясь авторитетом покойного Богоявленского, он, при помощи грубой лести, втерся в доверие Гольца; он же в стороне города, куда ходил Гольц на службу, разыскал чистенькую и прохладную каморку в рейнском погребке еврея Ицки. Ицка сразу стал величать Гольца превосходительством, оказывая ему знаки почтения и рабской покорности. Это не мешало ему, уверившись в постоянстве своих ежедневных гостей, с возрастающим усердием приписывать лишки в счетах, подаваемых Гольцу, так что со временем не только все третное жалованье ветеринара поступало в руки расторопного еврея, но Гольц уже не выходил у Ицки из долгов. Жалованья Гольц почти не приносил, а между тем как ни в чем не бывало требовал, чтобы привычки его удовлетворялись с прежней предупредительностью.
Когда Гольц окончательно отбился от дому и Луиза Александровна убедилась, что ей с этой стороны помощи ожидать нечего, она напрягла все силы, чтобы восполнить экономией пробел, происшедший в доме от безучастия мужа к положению семейства. Она из-за насущного хлеба втайне продавала некоторые ценные вещи своего приданого белья, приготовленные когда-то собственными трудами и руками покойной матери. В этих лихорадочных заботах более всего ее беспокоила мысль, что рано или поздно нужда заставит ее тронуть небольшой капитал, скопленный Гольцом до свадьбы и отданный ей на сбережение. Истратив некоторую часть этого капитала на первоначальное устройство хозяйства, Луиза до рокового для нее рождения второй дочери сумела не только пополнить израсходованные деньги, но даже прибавить несколько из собственных сбережений, так что составилась круглая цифра в тысячу рублей ассигнациями. Эти деньги, единственную надежду семейства, она тщательно берегла на черный день. Они лежали у нее в комоде, в горбатом картонном баульчике, заложенном более тонким бельем, редко бывавшим в употреблении. Ключ от комода она не поручала никому и по ночам клала его под подушку. Оправившись после третьего ребенка, Луиза Александровна с обычной ревностью принялась за свои трудные задачи. Муж, к этому времени окончательно предавшийся гнусному пьянству, не приносил домой жалованья, и никакая экономия не могла сделать что-либо из ничего. В крайности, Луиза Александровна решилась тронуть заветный капитал и однажды, когда муж, по обыкновению, напившись в постели кофею, ушел со двора, скрепя сердце отперла комод. При взгляде на известный уголок она исполнилась мрачного предчувствия. Тонкое белье вкривь и вкось нестройной кучей лежало — на горбатом баульчике. Явно здесь хозяйничала чужая торопливая рука. Дрожа от волнения, Луиза Александровна раскрыла баульчик. Ни копейки, все вынуто. На вопль бедной женщины прибежала Фекла, единственная и неизменная ее прислужница, не знавшая даже, как оказалось, о существовании тайного клада. При постоянной заботе, с какой Луиза хранила ключ при себе, невозможно было не только напасть на след вора, но даже сделать какое-либо предположение о времени похищения. «Точно какое-то колдовство, — думала целый день Луиза Александровна. — Что теперь скажет муж?» Он способен предположить, что она истратила деньги и выдумала всю эту историю. Днем ключ у нее постоянно в кармане, а ночью под подушкой, и сон ее так чуток, что ничего нельзя тайно достать у нее из-под головы. Единственное время, когда можно распорядиться ключом, — те полчаса, когда она утром выходит в кухню готовить мужу кофе. Но в это время он сам в спальне, и никто туда не входит. «Неужели это он?» С омерзением отвергнув эту мелькнувшую в голове мысль, Луиза Александровна снова запуталась в соображениях, и когда Гольц вернулся к четырем часам домой, она, рыдая, рассказала ему о случившемся. С перепугу муж показался ей даже пьяным менее обыкновенного.
— Надоели мне твои крики! — отвечал Гольц, как бы отряхивая растопыренные руки. — Плакать ты мастерица, а вот лучше бы об обеде подумала. Четыре часа, а супа нет на столе. Я голоден, а ты меня кормишь своим криком.
— Господи! Да не догадываешься ли ты, кто взял деньги?
— Отстань от меня, фурия! — крикнул Гольц, — и давай обедать!
— Да скажи же что-нибудь! — умоляла Луиза, — может быть, тебе понадобились деньги и ты сам взял их?
— Понадобились, я и взял собственные деньги, — отвечал Гольц, разводя руками. — Ну, что еще надо? А мне надо обедать.
Луиза Александровна не сказала ни слова, но на другой день стала проситься у мужа в Кременчуг. Гольц и слушать не хотел. Тем не менее, поручив преданной Фекле надзор за детьми, Луиза отправилась при первой возможности с попутчиком в Кременчуг и там отыскала генеральшу Лесовскую. Тридцатипятилетняя богатая вдовушка-генеральша, одна из учениц покойной госпожи Зальман, с малолетства была очень, дружна с Луизой, и к ней-то последняя решилась, обратиться за советом, как к единственной особе, могущей принять в ней участие. Луиза не обманулась в своей надежде. Переговорив с Лесовскою, известной франтихой, она устроила дело так, что генеральша, получавшая через Одессу все новости дамского туалета из Парижа, стала пересылать Луизе образчики, по которым последняя с замечательной спешностью и искусством приготовляла модное белье. Лесовская взялась рекомендовать и продавать товар знакомым богатым барыням и невестам, и таким образом Луиза Александровна, вырабатывая до тридцати рублей серебром в месяц, снова оградила семейство от крайней нищеты. Вероятно, Лесовская, под предлогом удачной продажи, тайно прибавляла денег от себя. Дела пошли своим порядком. Никто не слыхал ни малейшей жалобы от Луизы Александровны, но мало-помалу зрение от усиленной работы стало изменять ей, и домашние обстоятельства снова расстроились. Преданная Фекла, уже два года не получавшая жалованья, несмотря на просьбы Луизы, ни за что не хотела оставить семейства, которому ее услуги были необходимы; но не видя возможности платить жалованье, Луиза наотрез отказала ей и со слезами отпустила свою кухарку. Целое лето сама исполняла все работы по домашнему хозяйству. Но что предстояло осенью и зимой — страшно было подумать. Да и кому нужно было думать о деле, о котором не думал сам хозяин?
IVВ сороковых годах полком нашим командовал всеми любимый и уважаемый барон Карл Федорович Б… Штаб полка находился в городке К…, лежащем на берегу одного из днепровских притоков. Замечательный кавалерист и тонкий знаток лошадей, барон Б… весьма серьезно смотрел на службу, что не мешало ему с жадностью читать новейшие произведения французской и русской литературы, быть самым любезным собеседником и страшным хлебосолом. Он бывал не в духе, когда штабные офицеры не все у него за обеденным столом. Правда, обед барона не отличался дорогими тонкостями и высокими винами: это не позволяли его небольшие средства; но повар его из обыкновенной провизии умел так вкусно готовить, что надо было видеть, сколько всего этого поглощалось ежедневными гостями. Барон вставал рано, особенно летом (а лето в Новороссии чуть не круглый год), и прямо отправлялся пешком в конный лазарет, хотя последний находился, по крайней мере, в полутора верстах от его квартиры. В этих утренних странствиях ему ежедневно приходилось проходить мимо моей квартиры; но, зная, что его полковой адъютант (пишущий эти строки тогда занимал эту должность) не выходит в канцелярию до восьми часов, он никогда не тревожил меня ранними визитами. Хотя письменная отчетность о поступающих в лазарет и возвращающихся в эскадроны лошадях и лежала на мне и барон требовал большого порядка по этой части, тем не менее смотреть за лазаретом не входило в круг моих непременных обязанностей. Но, бывало, ничем нельзя так расположить почтенного Карла Федоровича, как добровольным сопутствованием в его прогулках в конный лазарет. Там он делался особенно сообщителен. Не было конца его сожалениям, соображениям, надеждам и практическим замечаниям. Строгий рационалист во всем остальном, он делался в области конного лазарета каким-то эмпириком, чуть не колдуном. Вполне доверяясь образованному и примерному молодому ветеринару, барон тут же из-под руки пичкал больным лошадям бог знает откуда почерпнутые секретные средства, и, надо сказать правду, весьма часто с неожиданным успехом. Из числа многих привожу следующий пример: известное худосочие (тельчак) не уступает никакому так называемому рациональному лечению. Шея, передние и задние ноги лошади сначала изредка, потом все чаще и чаще покрываются круглыми худокачественными язвами, приводящими организм к окончательному разложению и смерти животного. Болезнь эта в высшей степени заразительна. Как теперь помню, приведена была лошадь, красавица, девяти вершков, фланговая 3-го эскадрона, Готф. Напрасно ретивый юноша ветеринар истощал свою ученость, совал меркуриальные препараты, прижигал ранки раскаленным железом, — ничто не помогало. Барон не мог без волнения говорить о красавце Готфе. «Знаете ли, — сказал он мне однажды, — пусть Григорий Иванович убивается над неизлечимою болезнью, а я дам Готфу ящерицу».