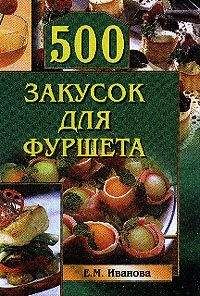Андрей Соболь - Человек за бортом
— Буржуазная дребедень! — буркнул Лесничий, увидев игрушку.
Туп-туп — постучал молоточек, и у Лесничего зашевелилась улыбка в лохматой бороде, а Яшка еще бойчее пружинку завел.
Вот «туп-туп» — постукивает молоточек, и покачивается палатка, и шагает слон, лапу за лапой переставляет, и хоботом шевелит, и егозит вожатый — шоколадного цвета человечек — Махмутка.
Доволен Яшка — зимним вечером, когда почти все в разброде, а он остается дежурным, оберегающим групповое добро и мальчишку Серафимы. Ложится животом на койку, никнет к полу, подталкивает Махмутку и ухмыляется — «туп-туп» — Яшка Мазников, ставший «безруким», руку потерявший в бою под Царицыном, Безрукий, убежавший дерзко и смело из казачьего плена, прямо из-под пули, когда другие пленные уже царапали в последних предсмертных судорогах сырую окровавленную и как будто чужую — не свою — вражескую русскую землю.
«Туп-туп» — от Гжатска через Царицын, Каспий, Кубань и башкирские степи к коммуне, к тиши сонной красно-селимских зимних вечеров, к ёгоцент… — и не выговоришь, но дед знает, как надо промолвить.
«Туп-туп» — от станового, мимо Гинденбурга, Керенского, Ригой, Варшавой, мимо Троцкого, Врангеля, деда Мариуса Петровича к Махмутке.
Пружинка разворачивается, сворачивается и снова разворачивается.
VРашель лежала на полу (качалку облюбовала Зина Киркова) лицом кверху; нос крючком заострился, к сумеркам точь-в-точь как у мертвой.
И в немой скорби пять-шесть минут, пока света не зажгли, постоял над старой — новой — покойницей бывший директор Цимбалюк, подкравшийся тайком, смявший в горести и страх и трусость. И поплакал бы, да вблизи шаги раздавались, и на колени бы встал для последнего прощания, но не разогнуться потом придавленному, коленопреклоненному в смертельной обиде.
И задом — к стенке, все ближе к стенке — отходил Цимбалюк, а нос Рашелин все выше и выше поднимался, с укором.
Все вповалку легли: и Рашель, и Мария-Антуанетта (вторично обезглавленная), и самоед с колчаном, монеты потускнели, зародыши в банках осунулись, зеркала затуманились, а живые в кабинетике не знали, как им с ногами своими, руками быть. Лилипут в одном углу полежал — в другой переполз; запылился крахмальный воротничок, голубенький галстучек, такой нарядный дня два тому назад, тесемкой обернулся, и горошинки сморщились. Маргарита по ошибке за левый бок хваталась, а ныло-то и жгло в правом. Цимбалюк плакаты в трубку свернул и трубкой тихонечко-тихонечко стучал по столу.
Тихонечко, когда хотелось молотком, молотом колотить и кричать, кричать без устали, без передышки о том, что проклинает он революцию, что уродец с раздвоенной головой единственный, кто мил и дорог ему в проклятой России.
Поутру Збойко в дверь просунул воблу на веревочке — Цимбалюк цыкнул.
Збойко дернул веревочку — и вобла отпрянула.
— Христопродавец! — крикнул Цимбалюк; лилипут сжал ручки и всхлипнул.
Часа в три стали дрова рубить, зеркала задребезжали — с трубкой наперевес кинулся Цимбалюк в залу и налетел на Лесничего, хмурого и волосатого. По-бабьи скулил Цимбалюк, потом долу клонился, потом трубкой потрясал — последним знаменем уцелевшим, потом Божьим гневом грозил.
Но не боятся Божьего гнева волосатые, да и всякого, потому что сказал Лесничий, будто ему на всех наплевать, даже на самого главного с портрета, если Цимбалюк доберется до Москвы и пожалуется Цику, и законов никаких он знать не хочет, кроме одного, что называется «Я» и пишется с прописной буквы.
Не разрешил Лесничий вывезти фигуры, зеркала и монеты, только позволил взять носильные вещи да из постельного немного — и нагрузился Цимбалюк до бровей, и Маргарита согнулась под узлом, и Егорушка свою корзиночку с галстучками и цветными манжетами поволок в неизвестность, в пространство — и себя туда же.
Но на дороге попался им трехаршинный неунывающий Васенька и с налету, как всегда, как во всех случаях своей стремительной и не оглядывающейся назад жизни, порешил судьбу лилипута.
VI— Это что такое? — протянул Васенька и пальцем ткнул в лилипутские плечики.
А минуту спустя он заливался в коридоре:
— Соломон! Соломон! Иди сюда! Соломон, у меня замечательная мысль! Соломон, этого маленького человечка мы оставим у себя.
И, схватив Егорушку за шиворот, он пушинкой поднял его с полу.
— Человечек, мы все человечество хотим поднять на высоты. Мы и тебя поднимем.
Егорушка заболтал, взлетая, желтыми ботиночками, Маргарита ахнула и уронила узел.
— Господин!.. Товарищ! — пискнул лилипут. — Господин товарищ!.. — И, закрыв помертвевшие глазенки, свесил головку с гладеньким, реденьким пробором.
— Дурак! — тихо сказал Соломон. — Чем мы будем кормить его? — И презрительно выпятил толстую негритянскую губу.
Ныряя в сугробах, уходили Цимбалюк и Маргарита; Маргарита стонала и порывалась бежать назад к Паноптикуму, но Цимбалюк передним узлом толкал ее в спину.
Падал, падал снег — небеса что ли прорвались? — и все крыл да крыл и все к земле давил да придавливал вчерашний царев, а сегодня красный город. Белый город — все белым-бело.
Глава третья
До Рождества еще кое-как держались красноселимцы, даже позволяли себе изредка и о гусе помечтать, не очень серьезно, с усмешечкой, будто в шутку, но все же мечтали в чаду дымных своих печурок-самоделок; на печурку ставили утюги и поливали их водой, чтоб пар шел и мешал комнате, жилью, углу, конуре обратиться в тундру сибирскую.
А город-то, весь собранный в одно, с церквами, с кладбищами, с заколоченными магазинами, с безработными монахами, с пролеткультом, с ребятишками в фурункулах от недоедания, с памятником Лассалю, с подпольным базаром, с севера, с запада, с юга и востока окаймленный мертвыми бесплодными полями, тундрой, давно уже расстилался и давно уже прочерни его застыли в голодном студеном оскале.
Крепко, точно навеки, до светопреставления, до труб архангелов — и Новый год не разомкнул костлявых челюстей, даже еще крепче сдвинулись зубы.
А после Крещенья стали собак убивать: охотились за псами, суками и щенками — поодиночке, по своему умению и согласно своей разведки, и группами. Председатель домового комитета на Горшечной собрал ударную группу, с паевым взносом на текущие расходы и канцелярские принадлежности. И на Мещерской другое сообщество возникло, все из бывших ратников ополчения второго разряда.
И под первым ударом ополченцев пал бесславной смертью дряхлый, в сизых подпалинах фокстерьер контр-адмиральши Копрошматиной.
Вдогонку пошла сама Копрошматина; все она перенесла: и разорение, и расстрел мужа, и смерть сына-корнета, по пикам чернотным угаданную и раскрытую за два фунта сушеных грибов, но казни фокстерьеровской не выдержала — опрокинулась навзничь и успокоилась навсегда у печурки, возле горшка с недоваренным горохом.
В Паноптикуме доели последний каравай.
Яшка собирал корки и, густо посолив, сушил их над плитой. Лесничий метался по городу: он ведал хозяйственной частью, кормил братию, а себя тайком поддерживал маленькой дозой спирта, совсем крохотной, чуть ли не с наперсток, но без которой дня бы не прожил. О «пороке» его знал только Соломон и советовал не сентиментальничать, помнить о своем мужичьем происхождении, не корчить кающегося дворянина, ублажать вольную крестьянскую душу, тупо не бичевать себя за каждый глоток и пить, пить сколько хочется и…
— Сколько дают, сколько можешь раздобыть.
— Выпьем со мной.
— Я не пью. Я пьян и так.
— Не валяй дурака. Каким манером?
— По-еврейски, — отвечал Соломон и хихикал. Все в нем тогда хихикало: и губы, и кривая горбинка, и даже базедовые облупленные глаза — хихикали, зная почему, посмеивались, зная, над чем.
А волосатый Лесничий, от первой рюмки опьянев, в углу своем, под Клеопатрой в золоченой раме, горестно казнил себя и давал себе слово не позорить впредь честного имени анархиста-эгоцентриста.
IIПервую залу, без зеркал, не отапливали, была она в стороне, у дверей сторожил самоед с колчаном: ему не привыкать стать.
За самоедом войлочный тюфячок, а на тюфячке Егорушка, а на Егорушке воротничок в три пальца шире стал: поднимет Егорушка голову — и шея вихляется. На самоеде одежда теплая, правда, молью изъеденная, но мехом поверху, и если прижаться к ней крепко-крепко, за колчан уцепившись, то теплотой попользуешься и Маргариту увидишь, не очень ясно, будто сквозь дымку, но все же воочию увидишь.
Еду Збойко приносил, в колчан Егорушка остатки прятал: на ужин и для раннего утра, пока Збойко вспомнит.
Второй день пуст колчан.
IIIЛесничий побывал повсюду; по-честному о спирте не думал, старался насчет хлеба, сахару и прочего, входил без доклада туда, куда следует с докладом, в одном месте спорил, в другом дерзил, в третьем был мягок и убедителен, а вернулся налегке.