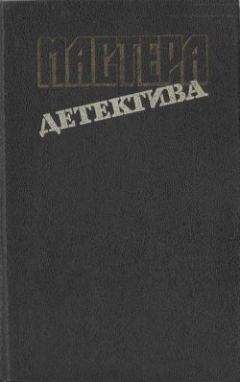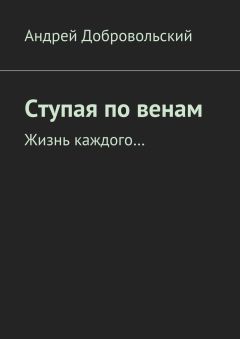Зинаида Гиппиус - Том 1. Новые люди
Тщетно Шилаев упрашивал ее остаться, говоря, что она успеет… Антонина пожала ему руку и направилась к маленькому мальчику в кепи и сюртучке с золотыми пуговками, который неистово выкрикивал – Ascenseur! Ascenseur! Par ici, messieurs et dames![14] Шилаев смотрел на ее тоненькую и маленькую фигурку вдали. Ему было и весело, и досадно на Ирму, которая прервала их разговор. Он улыбнулся чему-то про себя и пошел медленно в Cafe de Paris, возбужденный и веселый, каким давно не был. Вялость его исчезла.
IIIВойдя в галерею направо, где еще было совсем светло, хотя солнце и спряталось за горы, Шилаев сейчас же нашел глазами Ирму за дальним столиком. Кроме коротенького кавалера, с ней сидел еще кто-то, неизвестный Шилаеву. С коротеньким господином он познакомился у Ирмы дня два тому назад.
– А, вот и он! – вскрикнула Ирма, блестя своими крупными зубами. – Я думала, что вы уж не придете… Нехорошо! А я компанию вам приготовила. Этот monsieur – тоже русский…
И она, указывая на нового господина, произнесла, путая, какую-то фамилию, мало похожую на русскую.
Шилаев взглянул – и лицо господина не показалось ему незнакомым. Он вспомнил, что видел его на Променаде; ему назвали тогда и фамилию, и сказали, что это – адъютант какой-то важной персоны. Адъютант был немолод – но видимо еще думал, что он молод. Воротнички его рубашки стояли, как мраморные, а серенький complet[15] придавал ему какую-то младенческую игривость. Между тем голова адъютанта была лишена волос на темени, и напрасно он прикрывал этот недостаток, начесывая с боков длинные и редкие пряди. Но самое замечательное – это был цвет лица у адъютанта: казалось, будто этот почтенный человек только что проехал в вагоне целые сутки – и не успел еще умыться. Даже белокурые усы его имели не чистый белокурый цвет, а точно с примесью пыли и каменного угля. Впрочем, адъютанта не могли смушать такие пустяки.
Малорослый кавалер тоже был русский, некто Тетерево-вич. Шилаев знал уже, что это – молодой петербургский чиновник с не блестящей, но верной протекцией – и с поэтическими наклонностями.
– Ну, вот – вы все соотечественники! – весело смеялась Ирма. – Я могу представить себе, что обедаю в России! Только уговор: ни словечка при мне на вашем непонятном языке, ни словечка! Не люблю, когда не понимаю, что говорят.
– А вы понимаете, что мои глаза говорят? – произнес Тетеревович, поворачивая к Ирме свои серые, очень выпуклые глаза.
Ирма смеялась еще громче.
– Все знают, что у вас прекрасные глаза, M-r Terevotsh! Сделайте одолжение, не смотрите на меня так страшно.
Тетеревович в России, на петербургских журфиксах, среди барышень – наверно считался первым остряком, говоруном и, пожалуй, подчас «душой общества». Здесь же он потерял всю соль. Остроумие его не принималось на чужой почве. Не то чтобы им овладела застенчивость, о, нет! Его немного стеснял адъютант, это правда; но главный пункт преткновения – были дебри французского языка. Говорил он по-французски чистенько, даже с выговором не слишком дурным; но остроты и живая болтовня ему были решительно не под силу и он чувствовать себя, как человек с крепко связанными ногами, который слышит звуки вальса и хочет танцевать. Сентиментальность и поэзия удавались ему лучше, и он решился выезжать на них.
Адъютант владел французским языком прекрасно – и поэтому говорил больше всех. Да и Шилаев разговорился к концу обеда, после двух бутылок «demi-sec»[16]. Между прочим, адъютант позвал к себе какого-то M-r George, щегольски одетого, с веселым лицом, и отдал ему неизвестные приказания, после чего три лакея привезли маленький чистенький столик на колесах. На столике лежала половина быка. И адъютант при себе велел отрезать розовые куски ростбифа.
Тетеревович почувствовал невольное уважение к адъютанту и несколько смешался. Впрочем, он решил в следующий раз поступить так же и сам; а пока, чтобы сделать хоть что-нибудь оригинальное и «заграничное» – упорно стал требовать себе порцию лягушек.
На это, однако, ни Ирма, ни адъютант не обратили особого внимания. Тетеревовичу подали тоненькие косточки, похожие на цыплячьи и политые белым соусом. Один Шилаев обернулся рассеянно и сказал по-французски:
– Зачем вы эту дрянь едите, да еще после обеда? – И сейчас же, не дождавшись ответа, принялся опять с жаром, путаясь и ошибаясь, объяснять что-то Ирме, которая слушала мало, но много смеялась.
Тетеревович остался наедине с лягушечьими костями и глодал их, затаив обиду неизвестно против кого.
– M-r Pavloucha! Вы такой плут! – говорила Ирма, грозя ему палыдем. – А кто эта маленькая черненькая дама, cette petite brune[17], с которой вы гуляли?
– Я знаю эту даму, – сказал адъютант. – Она тоже русская, жена отставного генерала. Очень богатая. Ее редко видно на Promenade. Она, кажется, в Каннах живет или где-то возле, я не знаю…
– Ее муж – мой дядя, – подхватил Шилаев. – Я их встретил сегодня случайно. Она мне совсем не нравится, моя прелестная тетушка…
Зачем он соврал – он и сам не мог понять. Выпитое вино делало его все веселее и развязнее. Адъютант поддерживал тонкий и двусмысленный разговор. Он не стеснялся и сальностями покрупнее, что забавляло Ирму. Между тем стемнело, в галерее зажгли огонь. Столики около них пустели. В большой зале еще слышался шум, говор и беготня. Даже сквозь опущенные шторы светлело яркое пятно открытого кафе напротив. Слышен был стук колес и хлопанье бичей.
Щеки Ирмы покрылись нежной краской. Она вдруг примолкла. Тетеревович, покончив с лягушками, обратился было опять к ней, тщательно составив элегантную фразу; но она, не дослушав, обернулась к Шилаеву. Шилаев, в порыве откровенности, объяснял адъютанту, какие женщины ему приходятся по вкусу, и опять уверял, что la petite brune ему ни капельки не нравится, и не может нравиться – причем лгал безбожно и без всяких угрызений совести. Ирма взглянула на него, прищурив свои черные глаза, которые слишком блестели.
– Vrai?[18] – процедила она сквозь зубы. – Так ваша родственница серьезно вам не нравится?
Через несколько минут она встала.
– Мне пора. М-г Шилаев, вы меня проводите? Мы поедем в карете…
Адъютант раскланялся и сказал несколько слов так тихо, что никто их не слышал, кроме Ирмы.
– Oui, oui, certainement[19], – торопливо проговорила она и, застегнув перчатку, взяла под руку Шилаева.
Тетеревович раскланялся молча, потому что от поспешности не мог решительно придумать ничего оригинального по-французски. В голове у него упорно и бессмысленно вертелась песня:
Adieu, mon ange[20], я удаляюсь,
Boin de vous[21] я буду жить…
Он сделал усилие, чтобы не произнести этих любезных слов громко, – чего, конечно, делать не следовало, – и опять поклонился молча и очень низко.
Очутившись в темной карете вдвоем с Ирмой, Шилаев, нимало не медля, принялся продолжать разговор, начатый было с адъютантом. Неизвестно, подействовало ли на него шампанское (он пил редко) или другое что-либо повлияло на его настроение – но ему хотелось говорить, говорить о себе, рассказывать и обсуждать все подробности своей жизни, жаловаться, оправдываться и философствовать. Чем дальше он говорил, тем больше убеждался, что он замечательный человек, полезный и серьезный, а виновато во всем дурное стечение обстоятельств, – невеселая судьба… Но придет время, будет и на нашей улице праздник; понадобимся, мол, и мы, простые, серьезные труженики на общую пользу… Сила, сила нужна, а не затеи разные да тонкости… Умеешь работать, приносишь пользу – ну, значит, и прав, и больше ничего не требуется… И вернется время твердых убеждений, трезвых взглядов на жизнь…
У Шилаева даже в горле пересохло от долгой речи. Как сумел он все это выразить на французском языке и как могла понять его Ирма, неизвестно. Вероятнее всего, что она просто-напросто не слушала. Они проезжали Болье, Виллу-Франку. В открытые окна кареты попадал блеск дальних огней – и Шилаев видел Ирму, прижавшуюся в угол, с бледным, но не усталым лицом и с полузакрытыми глазами. Наконец, когда Шилаев перешел к подробному описанию своего детства, воспитания, и просил слушательницу обратить, между прочим, внимание на тот факт, что он уже десяти лет начал сомневаться в существовании загробной жизни и вообще проявлять «трезвые» взгляды на жизнь – Ирма вдруг обернула голову и пристально посмотрела в окно кареты. Они въезжали в город. В порте, мимо которого они ехали, густо чернели под лучами звезд трубы и мачты яхт и небольших пароходов. Через десять минут они должны были подъехать к отелю, где жила Ирма.
И вдруг Павел Павлович, оборвав на полуслове свою исповедь, с недоумением почувствовал, что Ирма склонилась к нему и старается обнять его в темноте. Жаркая, жирная грудь ее колебалась около него; пахло духами и пудрой.