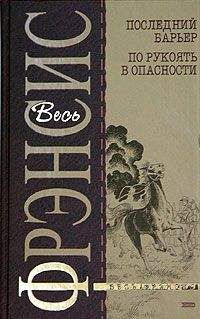Андрей Дрипе - Последний барьер
В тот раз у Мейкулиса тоже сидел под глазом потекший желтоватый синяк. С этим синяком он прибыл из следственного изолятора. И тогда он тоже уверял, что никто его не бил, просто он во сне зашибся об угол кровати.
Его ничто не интересовало, и, как впоследствии Киршкалн выяснил, мальчик ни разу в жизни не был ни в театре, ни в музее. Единственное, о чем он говорил с некоторым оживлением на лице, это о похождениях в чужих курятниках. "Они там сидят все рядком, а я их за голову и - в мешок. За голову надо.
Голову чуть свернуть и держать, чтоб курица висела.
Чуть потрепыхается и - готова. Быстро, и шуму никакого". И Мейкулис показывал, как это следует делать.
В дверь постучали. Вон что - Трудынь соизволил пожаловать.
- Узнали, кто накидал банок Кастрюле? - с порога задает он вопрос и тут же на него отвечает: - Вроде бы Рунгис, я слыхал. Кастрюля - размазня, таким всегда получать. Есть такие люди - и не хочешь, а дашь ему в нос, грех пройти мимо. Как по боксерской груше.
- Но такие вещи ведь не в твоем вкусе, - усмехнулся Киршкалн.
- Вообще-то нет, но, знаете, бывает, никак без этого нельзя. Я и сам много думал насчет этих драк. Черт те что. Помню, в одном клубе была закрытая балеха.
А раз закрытая, значит, во что бы то ни стало надо на нее пролезть через забор, через окно сортира, через гардероб и так далее. В общем, через час все ребята там и веселятся. Работает буфетик с пивом, "Кристалл"
прихватили свой. Мальчики сидят себе, выпивают, танцуют, а потом вдруг нападает на них жуткая охота подраться. Страшное дело! Ребята все дружные, мировые, я вам скажу. Но вот настает такой момент - надо драться. А с кем? Пойдет к одному столику, к другому, везде угощают, всюду друзья-приятели. Вот и получится плохо - между собой, выходит, надо драться.
гляжу, Генка наш совсем раскис, а Котик прижал его к стене и помалу боксирует. Подходит Рыжий и как врежет по разу тому и другому - те с копыт долой, а Рыжий идет себе в зал, плюхается на скамью и изучает люстры. А те встали и идут бить Рыжего. Они братья - потому всегда вместе. Не совсем, правда, наполовину. Отец у них один, а мать у каждого своя. На одной улице живут, потому такие гибриды иногда бывают. Папаша дома перепутал и вместо Руты завернул к-Нине. Они эту хохму сами раскрыли и были жутко рады. Теперь мы будем друг за дружку, говорили они.
Так вот, приходят они вдвоем и дают ума Рыжему.
У него оба глаза заплыли, точь-в-точь как у Кастрюли.
Но что там особенного, никакой драки и не было, похохмили, и все. Свои ребята.
- И ты считаешь, это вполне нормально?
- Почему нормально? Ненормально, но что же делать? Настрой такой внутри, боевой дух, и хоть тресни - ничего не поделать. Это же прямо настоящий экстракт драки.
- Если бы "Кристалла" вначале не было, в конце не появился бы и. этот экстракт. Правильно?
- А без "Кристалла" как? - удивляется Трудынь. - Все закладывают!
- Советую все-таки попробовать. Возьми себя в руки и не закладывай! И не надо будет драться.
В Уголовном кодексе насчет покупки "Кристалла" ничего не сказано, но, купив, очень скоро можно налететь на статейку.
- Тяжкие у вас мысли!
- А у тебя мысли легкие, да дела тяжкие. Простокваши пей побольше, от нее мозги развиваются. Вот так, Трудынь! Теперь мне надо делом заняться, можешь быть свободен.
Киршкалн, написав рапорт на Рунгиса, чтобы того посадили в дисциплинарный изолятор, отправляется к начальнику колонии.
- Некрасиво, - говорит Озолниек, выслушав доклад воспитателя. Зументова кодла начинает мутить веду. И твой Мейкулис наверняка не единственный объект вымогательства.
- Что поделать, - пожимает плечами Киршкалн. - Если Зумент - главный заводила, мы к нему пока еще подобратнся не можем, и из-за одного Мейкулиса большой шум поднимать было бы нежелательно.
- Наверно, так оно и есть, - соглашается Озолниек. - Рунгиса посадим, а насчет денег покуда молчок. Этот зуб надо будет рвать с корнем и наверняка.
VII
Закончился последний экзамен. Крум остался в классе один и вписывает в графы протокола фамилии воспитанников и оценки. Шариковая ручка бегает по бумаге быстро и нетерпеливо. Этот протокол - последнее, что еще надо сделать, и тогда он будет свободен.
Свободен почти целых два месяца. Пахнут цветы в вазочке на столе. Завтра начинается отпуск.
Карты уже вынесены. На полу под первой партой лежит кем-то оброненная "шпора". Надо бы поглядеть, чей почерк, но охватившее Крума блаженное предвкушение покоя и свободы не позволяет ему этого сделать. Да не все ли равно, кто ее писал? Наверно, Трудынева работа, он там что-то копошился в парте, хотя, казалось бы, зачем шпаргалка, если язык подвешен так ловко, как у Хенрика Трудыня.
В конце концов, все опасения оказались напрасными. Большинство его ребят благополучно закончили школу или перешли в следующий класс. Все-таки в последний момент взялись за ум. Но хватит об этом думать. К чертям собачьим всю эту школу - завтра начинается отпуск!
Протокол готов. Крум складывает листы в папки, запирает класс и направляется в учительскую. Помещение, знакомое до последней трещинки в оконной раме! Плоские желтоватые плафоны на потолке, в которых - к великому ужасу дежурной медсестры - всегда скапливается пыль и дохлые мухи. А протирать их трудно - один уже треснул. "Кошмар, вы только поглядите!" - и сестра протягивает к потолку свой стерильный палец, будто там не высохшая за стеклом мушка, а труп человека. "Да ну! Что же там такое?"
Крум, который сегодня на свою беду дежурный педагог, подхватывает ее тон и в ужасе выпучивает глаза.
Тоненькая сестричка извиняется, белый халатик, шурша, юркает за дверь, но Крум знает, что в санитарном журнале будет злобное замечание по поводу непорядка в учительской. Она делает свое дело. Она в ответе за мух, за пыль, за то, чтобы действовали клозеты. "Цена человека - его труд" вещает большой плакат перед школой. Но разве это труд - выискивать в плафонах дохлых мух? Ее товарки в больнице делают свое важное дело. Здесь же она деградирует и забывает даже чо, что когда-то знала. Пыль да клозеты, перевязанный кому-то палец, смазанная йодом ссадина. Колонисты не болеют, здоровые, черти. А если парнишка проглотит иголку или запустит себе под кожу ацетон, его отвозят в больницу. В сущности, злиться на медсестру нельзя. Разве сам он чем-нибудь лучше?
В углу комнаты коричневый шкаф, дверцы сверху до половины застеклены. Там хранятся наглядные пособия, ящик с мелом, таблицы, классный циркуль, пожелтевший скелет кролика на черной лакированной дощечке и прочие более или менее потребные на уроках предметы. Директор считает, что мела расходуют слишком много, а таблицами пользуются слишком мало. Скорей всего, он прав. За шкафом подставка для карт. Это область забот Крума. "Много карт порвано, надо подклеить, товарищ Крум, Европа вконец драная".
И Крум с грехом пополам добывает двоих воспитанников, с которыми латает Европу, но ребятам неохота, и они мажут клеем где надо и где не надо.
Длинный, выкрашенный белой краской стол на массивных ножках и со множеством ящиков напоминает Круму о больнице. На таком столе было бы сподручно вскрывать трупы, и он не удивился бы, однажды утром обнаружив в своем ящике скальпели. Иногда Крум очень даже отчетливо представляет, как он лежит на этом столе вспоротый, а коллеги столпились вокруг и с любопытством глазеют, что же все-таки у этого Крума внутри.
Так вот, сюда ходит он шесть лет подряд. Сотни, тысячи дней - и всегда все одно и то же. Нет, в самом начале было по-другому - было и интересно, и своеобразно, подчас даже увлекательно. О, наивный, преисполненный энтузиазма мечтатель!
За окном бухает гром. Предавшись раздумьям, Крум не заметил, когда погасли солнечные пятна на стенах и на полу, а углы налились сумраком. Он поспешно прячет протоколы в директорский ящик, но уйти не успевает - полил дождь. Сперва это белые напористые струи, потом он чуть притихает, но еще достаточно сильный, чтобы промочить как следует, покуда доберешься до дому. И дождевик Крум не захватил.
С утра было так солнечно и ясно. Крум подходит к окну и смотрит во двор зоны, на мокрый лозунг "Цена человека -его труд". По стеклу катятся капли. Сперва мелкие дождинки сплываются друг с дружкой до тех пор, покуда образовавшаяся капля не отяжелеет настолько, что начинает ползти вниз, оставляя извилистый мокрый след. Копятся дождинки, копятся до того, что им уже невтерпеж оставаться там, где они есть.
Тридцать пять лет. Другие в его возрасте уже известны на всю республику. Крума не знает никто.
И знать не будет. Тех, кто работает в колонии, не принято упоминать, как, впрочем, и сами колонии.
"Цена человека - его труд". Но здесь могут работать лишь те, в ком живы иллюзии, либо те, кто не задумывается над вопросом, что они делают и для чего.
К первым он уже не принадлежит, до вторых еще не докатился. Озолниек сказал: "Если бы я тебя не знал, посоветовал бы подыскать работу в другом месте".