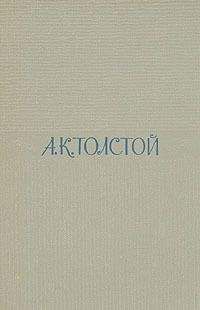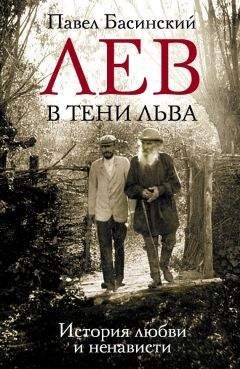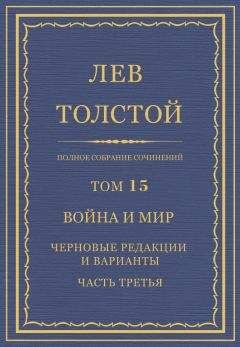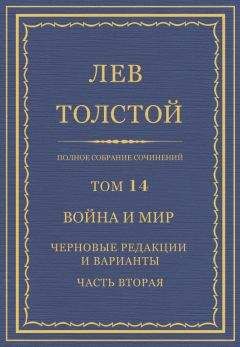Лев Толстой - Полное собрание сочинений. Том 13. Война и мир. Черновые редакции и варианты
В Москве жили очень весело эту зиму с 1810 на 11 год, как и в Петербурге. Pierre знал всю Москву и бывал во всех самых разнообразных московских обществах и во всех ему было весело, и во всех ему были рады. Он ездил и по старикам и старушкам, которые все любили его, и в свет, на балы, где о нем было составившееся мнение чудака рассеянного, очень умного, но смешного, «ridicule» человека, и вместе с прежними кутежными товарищами, собравшимися в Москву, к цыганам и т. п.
Товарищами его в этих экскурсиях были Долохов, с которым он опять сошелся, и шурин Анатоль Курагин.[3539]
[Далее со слов: Прожив год, Pierre сделался... кончая: ...он давно бы был нищим. — близко к печатному тексту. T. II, ч. 5, гл. I.] Бенефисы, дурные картины, статуи, благотворительные общества, школы, церкви, книги — ничто не получало отказа и ежели бы не два его друга, занявшие у него денег много и взявшие его под опеку, он бы всё роздал. В клубе не было обеда, вечера без него. Как только он приваливал на свое место на диване после двух бутылок Марго, его окружали, и завязывались споры, толки, шутки. Где ссорились, он одной своей доброй улыбкой и кстати сказанной шуткой — мирил. На балах он везде был, недоставало кавалера, он танцевал. Старушек он дразнил и веселил. С молодыми барынями был умно любезен, и никто лучше его не рассказывал смешные истории и не писал в альбомы. На турнирах в буриме с В. Л. Пушкиным и П. И. Кутузовым всегда его буриме был прежде готов и[3540] забавнее.
— Il est charmant, il n'a pas de sexe,[3541] — говорили про него молодые дамы. Масонские столовые ложи были скучны и вялы, ежели его не было.
Только в самой, самой тайной глубине души своей Pierre говорил себе, объясняя свою распущенную жизнь, что сделался таким не оттого, что природа его влекла к этому, а оттого, что он влюблен несчастливо в Наташу и подавил в себе эту любовь.
[Далее со слов: В начале зимы князь Николай Андреевич с дочерью опять приехал в Москву... кончая: ...резкие суждения о происшедшем, нельзя было не удивляться этой свежести ума, памяти и изложения. — близко к печатному тексту. T. II, ч. 5, гл. II.] Для посетителей весь этот старинный дом с огромными трюмо и дореволюционной мебелью, этими лакеями в пудре и сам <свежий>, энергический старик с его кроткой дочерью и хорошенькой француженкой, которые благоговели перед ним, представлял величественное и приятное зрелище. Но посетители не думали о том, что кроме тех двух-трех часов, во время которых они видали хозяев, были еще двадцать один час суток, во время которых шла тайная внутренняя, домашняя жизнь. И эта то внутренняя домашняя жизнь в последнее время так тяжела стала для княжны Марьи, что она уже не скрывала от себя тяжесть своего положения, сознавалась в нем и молила бога помочь ей. Ежели бы он заставлял ее все ночи класть поклоны, ежели бы он бил ее, заставлял бы таскать дрова и воду, ей бы и в голову не пришло, что ее положение трудно, но этот любящий мучитель, самый жестокий от того, что он любил и за то мучал себя и ее, — он умышленно с хитростью злобы умел ставить ее в такое положение, что ей надо было выбирать из двух невыносимых положений.[3542] Он знал, что теперь ее главная забота была получить его согласие на брак князя Андрея, тем более что срок его приезда приближался и на это то, самое больное место он направлял все свои удары с проницательностью любви-ненависти. Пришедшая ему в первую минуту мысль-шутка о том, что ежели Андрей женится, и он женится на Bourienne, он видел, так больно поразила княжну Марью, что эта мысль понравилась ему и он с упорством последнее время выказывал особенную ласку к m-lle Bourienne и держался плана выказывать свое[3543] недовольство к дочери любовью к Bourienne. Один раз в Москве княжна Марья видела (ей казалось, что отец нарочно при ней это сделал), как князь поцеловал у m-lle Bourienne руку. Княжна Марья вспыхнула и выбежала из комнаты. Через несколько минут m-lle Bourienne вошла к ней, приглашая ее к князю. Увидев Bourienne, княжна Марья спрятала слезы, вскочила, сама не помнила, что она наговорила своей французской подруге и закричала на нее, чтоб она шла вон из ее комнаты. На другой день[3544] Лавруша — лакей, не успевший во время подать кофе француженке, был отослан[3545] в часть с требованием сослать его в Сибирь. Сколько раз в этих случаях вспоминала княжна Марья слова князя Андрея о том, для кого вредно крепостное право, и князь при княжне Марье сказал, что он не может требовать почтительности от людей к своему другу Амелии Евгеньевне, ежели дочь его позволяет себе забываться перед нею. Княжна Марья просила прощенье у Амалии Евгеньевны, чтобы спасти[3546] Лаврушку.
[Далее со слов: Утешения прежнего в монастыре и странницах не было, кончая: ... ненавидела и презирала себя за то. — близко к печатному тексту. T. II, ч. 5, гл. II.]
В 1811 году в Москве был быстро вошедший в моду французский доктор, огромный ростом красавец, любезный как француз,[3547] необыкновенно ученый и образованный и, как говорили все в Москве, врач необыкновенного искусства. Метивье был принят в высших домах не как доктор, а как равный.[3548]
Князь Николай Андреевич, смеявшийся над медициной, последнее время стал допускать к себе докторов, как казалось, преимущественно с целью посмеяться над ними. В последнее время был призван и Метивье и раза два был у князя, как и везде, кроме своих врачебных отношений, стараясь войти и в семейную жизнь больного. В Николин день, именины князя, вся Москва была у подъезда его дома, но он никого не принимал, и некоторых, список которых он дал княжне Марье, велено было звать обедать. Метивье, в числе других приехавших с поздравлением, нашел приличным, как доктор, de forcer la consigne,[3549] как он сказал княжне Марье, и вошел к князю. Это именинное утро князь был в одном из самых дурных своих периодов. Он выгнал от себя княжну Марью, пустил чернильницей в Тихона и лежал, дремля, в своем волтеровском кресле, когда красавец Метивье, с своим черным хохлом и прелестным румяным лицом, вошел к нему, поздравил, пощупал пульс и сел подле него. Метивье, как бы не замечая дурного расположения духа, развязно болтал, переходя от одного предмета к другому. Старый князь, хмурясь и не открывая глаз, как будто не замечая развязно веселого расположения духа доктора, продолжал молчать, изредка бурча что-то непонятное и недоброжелательное.[3550] Метивье поговорил с почтительным сожалением о последних известиях неудач Наполеона в Испании и выразил условное сожаление в том, что император увлекается своим честолюбием. Князь молчал. Метивье коснулся невыгод континентальной системы. Князь молчал. Метивье заговорил о последней новости введения нового свода Сперанского. Князь молчал. Метивье с улыбкой торжественно начал говорить о востоке, о том, что направление французской политики, совокупно с русской, должно бы было быть на востоке, что слова сделать Средиземное море французским озером...
Князь не выдержал и начал говорить на свою любимую тему о значении востока для России, о взглядах Екатерины и Потемкина на Черное море. Он говорил много и охотно, изредка взглядывая на Метивье.
— По вашим словам, князь, — сказал Метивье, — все интересы обоих империй лежат в союзе и мире.[3551]
Князь вдруг замолк и устремил прикрываемые отчасти бровями злые глаза на доктора.
— А, вы меня заставляете говорить. Вам нужно, чтоб я говорил, — вдруг закричал он на него. — Вон! Шпион. Вон! — и князь, войдя в бешенство, вскочил с кресла, и находчивой Метивье ничего не нашел лучше сделать, как поспешно выйти с улыбкой.[3552]
Обед был чопорен,[3553] но разговоры и интересные разговоры не умолкали. Тон разговора был такой, что гости, как будто перед высшим судилищем, докладывали князю Николаю Андреевичу все глупости и неприятности, делаемые ему в высших правительственных сферах. Князь Николай Андреевич как бы принимал их к сведению. Всё это докладывалось с особенной объективностью, старческой эпичностью, все заявляли факты, воздерживаясь от суждений, в особенности, когда дело могло коснуться личности государя. Pierre нарушал только этот тон, иногда стараясь сделать выводы из напрашива[вшихся] на выводы фактов и переходя границу, но всякий раз был останавливаем. Растопчина видимо все ждали и, когда он начинал говорить, все оборачивались к нему, но вошел он в свой удар только после обеда.[3554]
— Consul d'état, ministères des cultes.[3555] Хоть бы свое выдумали,[3556] — закричал князь Николай Андреевич, — изменники, державная власть есть самодержавная власть, — говорил князь, — та самая, которая велит делать эти изменения.